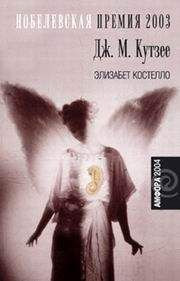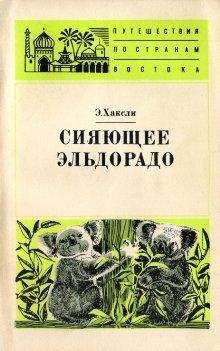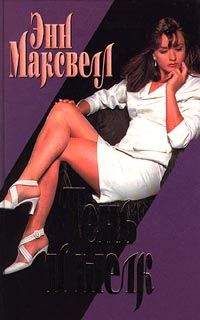Элизабет Костелло - Кутзее Джон Максвелл
Постскриптум
В иные моменты даже самое незначительное создание — собака, крыса, жук, чахлая яблоня, телега, взбирающаяся по вьющейся вдоль холма дороге, поросший мхом камень — значит для меня больше, чем ночь блаженства с самой прекрасной, самой нежной возлюбленной. Эти немые, иногда неодушевленные создания приникают ко мне с чувством, так полно выражающим присутствие любви, что нет ничего, доступного моему восторженному взгляду, в чем не ощущалась бы жизнь. Словно всё-всё, что существует, всё, что я могу вспомнить, всё, чего касается мой смятенный ум, — всё что-то означает.
Гуго фон Гофмансталь
Письмо лорда Чандоса лорду Бэкону. 1902
Письмо Элизабет, леди Чандос, Фрэнсису Бэкону
Досточтимый сэр, Вы получите от моего мужа Филипа письмо, датированное 22 августа этого года. Не спрашивайте меня как, но копия этого письма попала мне на глаза, и теперь я присоединяю свой голос к его голосу. Боюсь, вы решите, что мой муж написал свое письмо в припадке безумия, в припадке, который теперь, вероятно, прошел. Я пишу, чтобы сказать: это не так. Все, что вы прочтете в его письме, — правда, за исключением одного обстоятельства: ни одному мужу не удавалось скрыть от любящей жены столь крайнюю степень болезни рассудка. Много месяцев я знала о горе моего Филипа и страдала вместе с ним.
Как пришла к нам эта беда? Помню, было время, раньше, чем начались эти дни печали, когда он пристально, как заколдованный, вглядывался в картины, изображающие сирен и дриад, страстно желая войти в их обнаженные сверкающие тела. Но где в Уилтшире найти сирену или дриаду, чтобы он мог попробовать? Волей-неволей я стала его дриадой: это в меня он входил, когда хотел войти в нее, это я ощущала его слезы на своих плечах, когда ему не удавалось, снова и снова, найти ее во мне. „Пройдет совсем немного времени, и я научусь быть твоей дриадой, научусь говорить на языке дриад“, — шептала я в темноте; но он был безутешен.
Временем горестей называю я нынешнее время; и все же в обществе моего Филипа у меня бывают моменты, когда душа и тело становятся едины, когда и я готова, вспыхнув, заговорить на языке ангелов. Мои восторги — так я зову эти минуты. Они приходят ко мне — я пишу не смущаясь, сейчас не время для смущения — в объятиях моего мужа. Только он может привести меня к ним; ни с каким другим мужчиной я бы не познала их. Душой и телом он говорит со мной, говорит, не произнося ни слова; он погружает в меня, в мою душу и в мое тело, уже не речи, а раскаленные мечи.
Мы не предназначены переживать такое, сэр. Раскаленные мечи, говорю я, погружает в меня мой Филип, мечи, которые не речи, — они и не раскаленные мечи, и не речи. Это как заразная болезнь — всегда называть что-то одно другим словом (как заразная болезнь, говорю я; я едва удержалась, чтобы не сказать „крысиная чума“, потому что в наши дни всюду полным-полно крыс). Словно путник (запомните это слово, прошу вас), я ступаю на мельницу, темную и заброшенную, и вдруг чувствую, как доски пола, прогнившие от влаги, уходят у меня из-под ног, и я погружаюсь в быстрый поток, — я — этот человек, путник, зашедший на мельницу, но я и не он; это и не заразная болезнь, постоянно преследующая меня, и не крысиная чума, и не раскаленные мечи, а что-то совершенно другое. Это всегда не то, что я называю, а что-то другое. Отсюда и слова, которые я написала выше: мы не предназначены переживать такое. Лишь душам исключительным могло быть предназначено пережить такое — когда слова уходят у вас из-под ног, как прогнившие доски, — как прогнившие доски, снова говорю я и ничего не могу поделать, даже если изо всех сил стараюсь объяснить вам свою болезнь и болезнь моего мужа, внести ясность, говорю я, — но где ясность, где ясность?!
Мы не способны пережить такое, ни он, ни я, ни вы, досточтимый сэр (потому что кто может поручиться, что через его письмо, или если не через его письмо, то через мое, вас не коснется заразная болезнь, которая вовсе не заразная болезнь, а что-то другое, всегда что-то другое?). Возможно, придет время, когда такие души, о которых я пишу, смогут вынести свои горести, но это время еще не пришло. Это будет время — если оно придет, — когда по земле будут ходить гиганты или, быть может, ангелы (я более не владею собой, я устала, я перешла к образным выражениям; видите, сэр, как я измучена, я называю это натиском, когда не называю это „мои восторги“; натиск и восторг — это не одно и то же; каким-то образом, каким — я не могу объяснить, они абсолютно ясно вырисовываются у меня перед глазами, в моем глазу, как я это называю, перед моим внутренним взором, как будто у меня внутри есть еще один глаз, который смотрит на слова, проходящие одно за другим, как солдаты на параде (как солдаты на параде, говорю я).
Всё — аллегория, говорит мой Филип. Каждое создание — ключ к другому созданию. Собака, сидящая в пятне солнечного света и вылизывающая себя, говорит он, в какой-то момент собака, а в следующий — сосуд откровения. И может быть, он говорит правду, может быть, в голове нашего Создателя [нашего Создателя, говорю я), где мы вращаемся, как в мельничном колесе, мы и тысячи других созданий проникаем друг в друга. Но как, спрашиваю я вас, могу я жить, если крысы, и собаки, и жуки проползают сквозь меня день и ночь, тянут и душат, царапают меня, дергают, вынуждая все глубже и глубже погружаться в откровения, — как? Мы не созданы для откровения, хочется мне закричать, ни я, ни ты, мой Филип, — для откровения, которое режет глаза, словно смотришь на яркое солнце.
Спасите меня, дорогой сэр, спасите моего мужа! Напишите! Скажите ему, что время еще не пришло, время гигантов, время ангелов. Скажите ему, что у нас все еще время блох. Слова больше не доходят до него, они трепещут и разбиваются вдребезги, как будто [как будто, говорю я) его защищает хрустальный щит. Но про блох он поймет, — блохи и жуки, которые все же умудряются пробраться за его щит, и крысы; а иногда и я, его жена, да, милорд, иногда я тоже пробираюсь за этот щит. Свидетели бесконечности — так называет он нас и говорит, что мы заставляем его содрогаться; и действительно, я чувствовала эту дрожь в агонии моих восторгов, чувствовала так сильно, что не могла отличить, моя она или его.
„Ни латынь, — говорит мой Филип, я точно записала его слова, — ни латынь, ни английский, ни испанский, ни итальянский не вынесут слов моего откровения“. Это действительно так и есть; даже я, его тень, знаю это, когда дохожу до состояния моих восторгов. И все же он пишет вам, как и я пишу вам, тому, кому лучше всех на земле ведомо, как следует выбирать слова, расставлять их, складывать суждения, как каменщик кладет стену из кирпичей. Мы тонем и взываем к вам, каждый из глубин своей судьбы. Спасите нас.
Ваша покорная слуга
Элизабет
11 сентября 1603 г. от Р. X.
J. M. COETZEE
ELISABETH COSTELLO
2002
*
notes
Примечания
1
От франц. raontagne — гора. Так называли партию Национального конвента, члены которой занимали места на верхней галерее; 20 сентября 1792 г. они проголосовали за казнь королевской семьи.
2
ТутуолаА. Путешествие в Город Мертвых, или Пальмовый Пьянарь и его Упокойный Винарь // Моя жизнь в Лесу Духов / Пер. с англ. А. Кистяковского. СПб.: Амфора. 2002.
3
В изд-ве „Амфора“ опубликован роман Б.Окри „Голодная Дорога“ (2001).
4
А жизнь так коротка. Всего не ухватишь (нем.).
5
Я мыслю, следовательно, существую (лат.).
6
Бойтесь данайцев, дары приносящих (лат.).
7
Вне церкви нет спасения (лат.).
8
Возвышена Господом душа моя (лат.).
9
Возвысил меня Господь (лат.).
10
Букв. совсем голая (франц.).