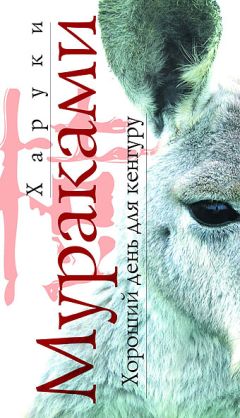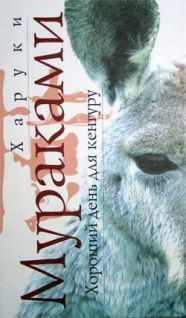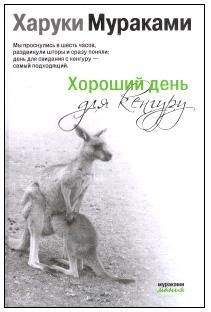Сергей Саканский - Человек-тело
В ее прекрасной головке засели слова той, выдуманной Вики. Она стала их употреблять в разговорной речи. Вот и разгадка…
Я стал вспоминать, все, что мог, из своих записей, и, наверное, даже покраснел в темноте. Ведь эту тетрадь я от нее прятал, держал в коробке среди других, старых, она и не видела, что я веду в ней записи. То-то и оно, что я разрешил ей читать мои старые рукописи, сколько ее душеньке угодно. И не сообразил при этом, что как раз меж ними и прячу.
Что же я тут такого написал? Надо бы встать и посмотреть… Но нет сил, слипаются глаза, тело ноет от вечерней гимнастики.
То, что она прочитала о себе, могло показаться ей противным, и сам я тоже — тот, кто это написал. Недаром ведь она не сказала, что читала тетрадь, хотя всегда делилась впечатлениями от того, что раскапывала у меня. А словечко все же усвоила, может — и бессознательно.
Нет, теперь-то я буду прятать эту тетрадь так, что она ее не найдет. Есть у меня одно местечко.
Я пытался заснуть, ворочался, что-то все равно продолжало тревожить меня, словно наспех склеенная разгадка вовсе таковой не была.
4
Не мог уснуть. Осторожно высвободил руку, которую она обнимала ладонями во сне, словно держась за ствол дерева, встал, прошел в кабинет.
Перечитываю и холодею. Да, именно холодею — столь уместно здесь это бульварное слово. И не от того, вовсе, что моя жена прочитала все это о себе.
Дело в том, что псевдо-интеллигентское словцо «Это ужасно, правда?» она употребляла еще до того, как стала моей женой и получила доступ к тетради. Там черным по белому написано, что она сказала «Это ужасно, правда?» — в тот самый первый день, когда пришла ко мне с повинной и принесла компьютер.
Что есть уже никак необъяснимо.
Это все-таки произошло
1
Началось, так сказать. До сих пор я лишь чувствовал все это, предполагал, фантазировал. О словах, о нелепости ее образа. Но вчера я, наконец, поймал реальность с поличным.
Это спустя полтора месяца после предыдущей записи. Интеллигентское словцо оказалось цветочком — вот настоящая ягодка.
Вика любит приводить достаточно длинные цитаты из моих произведений. Это не только благодаря ее феноменальной памяти, но и — попросту из-за любви.
Читать сочинения собственного супруга — одно из ее самых желанных занятий, наряду с постельными (настольными, настульными, напольными…) упражнениями с тем же супругом. Читать, а затем ему же и пересказывать. Впрочем, не то слово: она просто проговаривает их наизусть, затвердив, словно молитвы.
Три дня назад моя Вика привела довольно длинную цитату из рассказа, который я написал еще в юности. Слушал, отдыхая душой: вспомнился 1983-й год, лето его, холодное и ветреное, мертвая моя девушка с химико-технологического, которую я любил тогда, на которой даже хотел жениться… Бросила меня, как многие другие. Я вспомнил, как сидел на кухне, под старой черной лампой, которая сейчас на даче, вместе с прочим хламом тщетно пытается служить опять, в новой своей жизни… Я писал на каких-то синих листах, которые принесла с работы мать. Отец тоже тогда был жив. Я вспомнил и то, как потом, когда девушка, чье имя стояло на титульном листе, бросила меня, я пошел на Сретенский бульвар, и там, в укромном местечке за туалетом, сжег свою рукопись.
Сжег. Это было совершенно четкое воспоминание, словно старое кино, с крошевом дефектов на пленке. Я говорю: «Прощай, Наташа!» — и поджигаю лист. Кладу его на землю и добавляю второй, третий… Вдруг меж липовых стволов прорывается ветер. Листы летят, уже черные, катятся по траве, поигрывая искрами. А Вика продолжает читать, читать с выражением и трепетом — слова рукописи, уничтоженной много лет назад, посвященной женщине, которой уже нет в живых.
Я смотрю на нее с любопытством — теперь уже совершенно новыми глазами. С поличным. Я поймал ее с поличным.
Даже не верится, но это факт. Вика знает наизусть рукопись, которой не могла видеть, поскольку рукопись была изничтожена до ее рождения. Теперь я понимаю, что все мои прошлые попытки оправдать то, что происходит со мной, суть хватание за соломинку. Я тону. Тону в чем-то неизвестном, темном, безмерно большом.
Безумие — прежде всего приходит мысль. Уже несколько месяцев я живу в пространстве какой-то галлюцинации, но не отдаю себе в этом отчета.
Когда оно началось, с чего? Листаю свой дневник и пытаюсь найти отправную точку, тот миг, когда я был еще здоров, и записи соответствовали происходящему.
Вероятно, Вика, в своем первоначальном варианте, все же была. Да, я нашел на общественном балконе девочку с Венеры. Да, я сочинил об этом рассказ, преобразующей мою реальность. Затем написал второй, уже документальный рассказ. Далее, через полгода, снова вернулся к этой тетради и записал текущие события. Может быть, именно в этом месте я и попал в другой, галлюциногенный мир? И что со мной на самом деле происходит сейчас? Может быть, ничего этого нет — ни ноутбука, который принесла Вика, ни Вики самой, а я, например, лежу в больнице, умираю, сознание покидает меня и пытается выстроить новую, желанную реальность. Как в каком-нибудь типичном романе стиля лохотрон: автор не желает сообщать читателю одну незначительную подробность из жизни своего героя, а именно, что герой уже умер и весь этот роман представляет собой его предсмертную галлюцинацию.
М-да… Это совсем другой роман. Я жив, я есть, вот моя тетрадь. Из которой, между прочим, почему-то вырвана страница.
Это уже новый, параллельный сюжет. Кроме Вики, конечно, никто не мог этого сделать. И сделала она это не позднее месяца назад, потому что именно тогда я перепрятал тетрадь. Вопрос: для чего она это сделала?
Странно. В конце очередной страницы запись:
Ну, а что дальше?
Потом рваные остатки у корешка. Наверху следующей страницы я написал:
Вышеизложенное — всего лишь мечты, которые посещают меня всю жизнь, с тех пор как я стал владельцем этого умопомрачительного предмета.
Какого предмета? Что было написано на вырванной странице? Зачем она ее вырвала? На всякий случай отметил это место, может быть, вспомню когда-нибудь.
Или нет. Не хочу недомолвок с нею. Ведь Вика — единственный близкий мне человек. Просто спрошу ее завтра — и о том, и о другом. Почему вырвала страницу и откуда взяла текст сожженного рассказа.
Вспоминается графоман Тюльпанов. Вот же оно. Вот когда все это началось:
«Уходя на свою государственную службу, моя добросовестная сиделка бросила мне на одеяло книжку — роман некоего Виталия Тюльпанова, который я с маниакальным омерзением…»
И почему это я принимаю некие якобы знаки в книгах как должное, будто так на самом деле может быть?
Ведь поначалу я сам предположил, что все это было лишь похмельной галлюцинацией. В таком случае, похмелье явно затянулось, более чем на полгода…
Квартира героя, подробно описанная, как всегда у этих авторов, которые путают прозу со школьным сочинением, слишком уж напоминает мою — не эту, а ту, на Трубной, за аренду которой я и живу, спасибо родителям… Даже не так, не напоминает — этот Тюльпанов просто-напросто описал именно мою квартиру, один в один.
Вот, нахожу это место…
«Пожилой художник обитал на одной из шумных центральных улиц столицы, в старом доме, построенном еще в сталинском стиле. Попав в эту шикарную квартиру, вы сперва оказывались в просторном холле, откуда три двери вели в три обширные комнаты и т. д.»
Вижу какого-то жалкого провинциала, обалдевшего от Москвы, злобного и завистливого, мечтающего о красивой жизни. Который проговаривается, употребляя слова типа «столица» и «шикарный». Который не понимает, что «пожилой художник» — пошленько, а «обитал» — таки вообще омерзительно, плюс еще забывает между слов совершенно лишнее слово…
Гм. Выдуманный номер этой квартиры совпадает с номером моей теперешней. А вот и фрагмент моего телефона — пять цифр подряд — автор приводит сумму гонорара, полученного его злосчастным художником. Художник почему-то мой тезка по отчеству — тоже Васильевич. Женщину, которую он убил и порезал на куски зовут Анна, как мою первую жену… Нет нужды продолжать: иначе придется пересказывать Тюльпанова сплошняком.
Осознав все это, я испытал приступ ярости. Пока разогревался компьютер, я разминал пальцы и шевелил губами, нашептывая будущие гневные слова. Письмо складывалось примерно так:
«Скажи-ка мне, ты, мерзкий графоман, откуда ты знаешь подробности моей жизни, такие, каких не может знать никто, даже моя первая жена? Как, каким таким тайным аппаратом ты проник в мои мысли, мои фантазии?
Первое. Ты, своим ублюдьим языком описываешь мою старую квартиру — так, будто бы бывал в ней.
Второе. Ты в своих часто употребляемых числах, как всегда это вы делаете, чтобы показаться убедительными, приводишь числа, которые знаю только я, которые только для меня имеют значение.