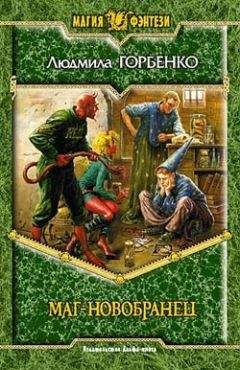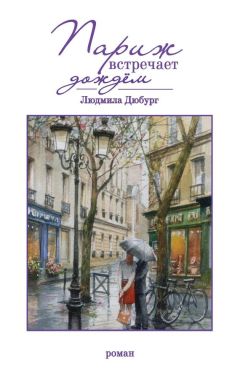Людмила Пятигорская - Блестящее одиночество
А Восковой обхватил гроб руками, налег сверху. Со стороны могло показаться, что он скорбит над покойником. «Власть…» — нашептывал он, поглаживая дубовый сундук и потираясь щекою о доски… Дальше, от «власти», слова понеслись сами собой, как по писаному, опережая мечтателя: «Спозаранку толкнем книжки в народ, ждут-не дождутся, лидеры, в петлю шеями лезут. Мозги бы им поменять, козлам, впрочем, как говорит Бальзамир, дело хозяйское. Кремлевских „убийц“ стихотворца — к ответу. Народ на расправу скор. Наши конкретно будут скандировать, это заметано. Гроб непременно открытым, и в головах я, поникший, с цветами… А если сам Пиздодуй внезапно объявится? Ну да пока ладно, после обдумаем. Подначиваем народ — наших везде понатыкано — и ждем, когда он на Кремль двинет… И чего меня Бальзамир как глисту в пищевод, через жопу пропихивает? Маньяк, блин. Я же ему говорил: дай мне что-нибудь непрезентабельное, хозяйственное — завхоз, например. А этот козел: я буду не я, если царем не сядешь. Сука, блин! — Восковой уже было проделал срамной жест, но слова понеслись дальше: — Потом, когда все будет кончено, Дезинфицирующих разошлем — чистить залы, палаты. После людей воняет. Куда ни взойду — воняет. Прав Бальзамир, хоть и сволочь, природа — вещь ненадежная, скользкая, тлением отдает. А сам как устроился — подправился там да сям и, смотришь, опять сухой, мертвый, подтянутый… Да! Ну и этот кремлевский проход, с бархатными коврами и позолоченной дверью. Порепетирую, как иду… Да, но дверь-то большая, а я маленький. Меня в микроскоп не увидишь. А говорил я козлу: „Смотри, ведь раскусят! Даром ли париться?“ А этот козел: „Не ссы, мол, замерзнешь…“ Да! И, говорит, твоя инагуа… ина… у-гу-ра-ционная речь: „Орнаментом фразы марево наведи, несуществующей логикой от обратного; не попадая в узор, бисером шей. Бей в угаре чечетку. Мускулами перед ними играй, не мозгами, которых у тебя и так нет (сволочь!). Потом вдруг — жахни в сердцах, точно пролаял, отрывисто и сердито. Будь саркастичен, скользок, востер, но только без распальцовки! Руки перед собой положи и клеем приклей! Лицо безучастным оставь — мимикой пренебречь, разве что желваками старайся! Словечки произноси, будто выплевывай, чтобы они, как сухой овечий горох, не липли друг к другу, круглились, отскакивали… Подача — удар, отбил — и бросок“…»
Где Пиздодуев«Пиздодуев-то наш в Москве, никуда голубчик не делся, да только кругами ходит», — вырвал Воскового из забвения Бальзамир. От неожиданности Восковой подскочил над гробом, а потом несвойственным для себя жестом за то место схватился, где у людей, по слухам, сердце бывает. Но быстро вернулся в прежнее бесчувственное состояние. А Бальзамир тем временем продолжал:
«Наши сегодня ночью на берегу его повстречали, но опознать не сумели. Хватились, пытались догнать, да куда! У одного, Ушастого, уши ветром продуло — бракованный экземпляр, будем списывать. Кстати, ты насчет Сырки на распорядился? Он с беглецом два раза встречался, ручаюсь, многое знает». — «Распорядился. Штурмующие бригадой за ним поехали, — внятно, одними губами, отчеканивая и выбрасывая слова, как отработанный мусор, отрапортовал Восковой и взглянул на дорогущие ручные часы, всем на зависть. — Он, полагаю, уже у нас в штабе. Пацаны из него клещами что хочешь вытащат, к бабке ходить не надо». — «То-то, — сказал Бальзамир, — на волоске, чай, висим. Если наш друг Пиздодуй перед народом объявится, народ может в любую сторону колыхнуться». — «Суки изменчивые. Бардак, — лаконично, овечьим горохом, обрисовал ситуацию Восковой. — Положиться, блин, не на кого».
Друг и смертьИз всех вариантов судьбы Степан выбрал самый рискованный. Волоса у него встали дыбом, он часто и мелко крестился. «Ну что ж, — думал Степан. — Один раз козе смерть. Надо идти выручать друга. В штаб так в штаб, а там — будь что будет.» Проверил, прочны ли усы, натянул берет на макушку, замаскировался очками. «Держи-и-ись, друг Миро-о-он, — словно через века и космические расстояния мысленно прокричал Степан. — Держи-и-ись, я за тобо-о-ой е-е-еду…»
«Здравствуйте, товарищи! — энергично гаркнул Степан, выходя бодрым шагом из-за могилы-прикрытия. — Я тут гулял на досуге и слышал обрывок вашего разговора». — «Какого такого еще разговора вы говорите?» — трусливо спросил Восковой, слепив все слова в коровью лепешку. «Да вот, насчет гроба. Располагаю временем, готов посодействовать».
Ноншалантный выход на сцену военных действий, в самое пекло, опустошил Степана. Отвага его покинула, но отступать было некуда. «Голуба вы моя, — расплылся в улыбке Бальзамир и распростер объятья. — Да вы нам с неба упали. Мы уж так рады, так рады. Правда, брат?» И он вогнал когти в задницу компаньона. «Да, да, — заторопился Восковой, перемалывая „кашу“ во рту, — именно так, очень и очень рады». Лицо у Степана совсем потухло, и он предательски скис. «Дедушку перехораниваем… — сказал Бальзамир и, если бы мог прослезиться, то непременно бы прослезился, но он только вынул белый душистый платок и приложил к мертвым глазам. — Мы с братом всех наших родичей перехораниваем. Свозим в фамильный склеп, так сказать…» — «П-п-п’похвально, п-п-п’пацаны, обычно п-п-п’пацаны п-п-п’плюют на свое п-п-п’прош-лое», — выдавил Степан без всякого выражения.
«Господи, — подумал он, — хоть бы смерть скорее пришла…» И грациозно куда-то поплыл. А по лицу Степана, землистыми трещинами пошли расходиться морщины. Пиздодуева скрючило, пригнуло к земле неведомой силой. «Как это быстро у людей происходит, быстрей, блин, чем у бабочек, — уже смелее сказал Восковой из непонятного далека. — Вот только что был молодой человек, а тут уже старость, клюка. — Папаша, вы меня слышите? — громко, со сладострастием, спросил он. — Куда вам гроба чужие таскать — вы сами над гробом стоите!» — «Ась?» — переспросил Пиздодуев с трепещущей у уха ладонью. Восковой наклонился и заорал: «Вам самому, говорю, в гроб ложиться пора! Как раз и место освободилось! Вон там, посмотрите!» Пиздодуев нагнулся, кряхтя, и заглянул в бездну. «Еще, еще ниже!» — орал Восковой, вверчиваясь в Степаново ухо. Пиздодуев нагнулся еще, сорвался и полетел, но ни туннеля, ни хора, ни ангелов он под собой не увидел, и только где-то внизу, на дне вечности, с задранным вверх лицом и растопыренными руками, нервно топтался Сыркин, готовясь как можно ловчее поймать Степана. «Эй, припадочный! — Бальзамир пнул лежащего Пиздодуева острым носком ботинка. — Ты чего? Эй, проснись!» Пиздодуева передернуло, картинка размылась и унеслась, и он очнулся. «П-п-п’простите, п-п-п’переутомился…» — сказал он.
На знак «три-четыре» Бальзамир и Степан взвалили на плечи гроб и понесли. Лавируя между могилами, Степан ковылял на ватных чужих ногах, которые изламывались как спички. В желудке подташнивало. «Потерпи, браток, — попросил Бальзамир. — Нам с кладбища — через лесок, а там до машины рукой подать…» — «Да я и дальше вам п-п-п’подсоблю…» — поперхнувшись, сказал Степан. «Вот и славненько, вот молодцом…» — похвалил его Бальзамир. Восковой, забегая вперед, освещал фонарем дорогу.
АрестВ ту бесконечную ночь, которая никак не хотела кончаться, точно ждала, пока разыграются все события и отгорят все страсти, лягушатники, взломав дверь кайлом, ворвались к Мирону в квартиру, Мирона скрутили и увезли в штаб. Из нескольких брошенных ими фраз Тимоти заключил, что государственный переворот «назначен» на утро, что Пиздодуев еще не пойман, а значит и жив (!) и что начальство обеспокоено какой-то «заминкой с телом». Лягушатники так спешили, что позабыли Сыркина обыскать, и кольт с отравленной пулей (в брючном кармане) приятно отяжелял бедро. Разумеется, Тимоти хотел застрелиться сразу, как только Штурмующие взломали дверь, но устоял, сочтя смерть предательством, и мысленно обратился к Степану: «Степан, живой или мехтвый, но я хазыщу тебя…»
ДопросДопрашивающий медлил. Руки за спину, он постоял у ночного окна; задернул штору; сел; нехотя заглянул в дело; постучал карандашом по ладони; посвистел, уставившись в потолок; открыл один ящик, другой, порылся в третьем; переставил чернильницу; отодвинул бумаги; зажег, дернув за шнурок, зеленую настольную лампу; покачался на стуле; зыркнул под стол, потом под него залез и долго оттуда не появлялся. Сыркин затосковал. Посидев минуту-другую, он посмотрел на часы. Часы показывали без двадцати два. «Товахищ Допхашивающий, мы непхостительно техяем вхемя». Сыркин заглянул под стол, но там никого не было. Он осмотрелся, чуть-чуть подумал и подошел к несгораемому шкафу. Элегантно, костяшками пальцев, постучал в металлический бок. «Вхемя, товахищ, вхемя, мы же не в пхятки с вами игхаем». — «Сдали нервы, готов, голубчик», — подумал Допрашивающий из шкафа, приоткрыл скрипучую дверь и ровно наполовину высунул свою морду. «Так где вы прячете Пиздодуева?» — с наскока спросил он. «В пизде на гвозде», — прозвучал ответ. У Следователя взметнулись брови. «Где?» — переспросил он. «Я ничего не говохил», — и Сыркин поднял растопыренные веером пальцы, давая этим понять, что он чист. «Пригрезилось, — подумал Допрашивающий. — Сказывается усталость».