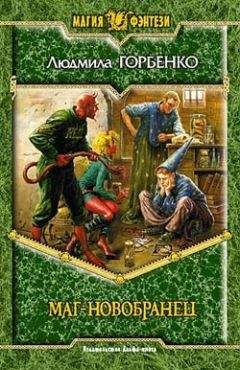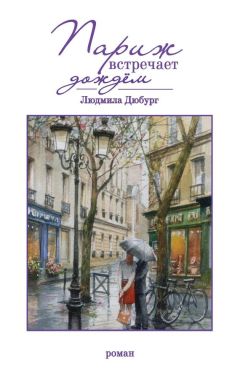Людмила Пятигорская - Блестящее одиночество
Но ничего этого Пиздодуев не слышал, он спал, прильнув щекой к соседней могилке, как к пуховой мягкой подушке. И снилось ему: заливные поля, кони в ночном, ветхий забор, покосившиеся строения, куриный насест в сарае, на котором сидели Ушастый и Фосфорический и о чем-то друг с другом мирно кудахтали. Он силился разобрать их язык, но не мог. «Вот сволочи, вот клекочут, — подумал Пиздодуев во сне. — Когда они тут, под рукой, а я, словно тать в нощи, им невидим и мог бы узнать лягушиную тайну…» Стоявшая рядом с насестом коса накренилась, со свистом рухнула, перерубив на две части Ушастого, из сердцевины которого полилась зловонная зеленоватая жидкость. Фосфорический жадно подставил бумажный стакан, прихваченный за углом в забегаловке. Шумно, с прихлебом отпив, он протянул пойло Степану. Тот взял стакан, на ощупь стакан был приятно холоден. Пиздодуев приблизил его к губам, опрокинул, но жидкость не полилась, а замерзла и теперь красиво посверкивала заточенными кристалликами. Кристаллики посыпались на язык, пошли разрывать глотку, впились в самое сердце, Степан произвел отчаяннейший рывок — и проснулся.
Копают«Едрит твою вошь, — сказал кто-то. — Нашла, бля, на камень!» Пиздодуев выглянул из-за холмика и увидел двоих, склонившихся над могилой. Один, что помельче, смотрел на лопату, переломившуюся у основания. «Если у кого руки из жопы растут…» — резюмировал тот, что повыше, порасторопнее, распутывая брезентовые ремни. Плюгавый в сердцах отбросил лопату и изготовился копать прямо руками. Высоколобый скользнул по нему взглядом. «Тебе одному до утра не управиться, дыхалки не хватит, — сказал он. — Ну да что, я от работы не бегал. Ээээх! — и он потянулся. Затрещали сухие мертвые кости, да так, что вывернулось плечо, рука отлетела назад, болтаясь и перебирая за спиной пальцами. Бальзамир, изловчившись, крутанул плечо, рука привалилась обратно. — Беремся, раз-два!» Он засучил рукава белоснежной, с зеленым отливом в мерцании фонаря сорочки, расслабил галстук и приступил. Восковой последовал его примеру. Степан судорожно сглотнул слюну, — что это были за типы, он уже знал.
Некоторое время Восковой и Бальзамир копали в полном молчании, сидя на корточках, как малые дети, играющие в песочнице. Время для Пиздодуева остановилось, или оно шло, огибая Степана. Отчаявшись, он выглянул из-за холмика, — те двое, скрежеща по мелким камням когтями, все рыли и рыли, запустив руки в яму почти по локти. Восковой копал осторожно и время от времени сокрушенно вздыхал, подставляя свою пятерню под свет фонаря и разглядывая черную грязь, въевшуюся под когти. Бальзамир же, напротив — был явно в ударе. Теперь он стоял на коленях, пергаментной задницей вверх, к луне, и буквально «вгрызался» в яму — точно остервенелый охотничий пес, почуявший лисью нору, — вовсю размахивая локтями с проступающими в небольших пока трещинках сероватыми косточками. Земля, наподобие водяных брызг, разлеталась во все стороны, комьями долетала и до Степана, и тот полег, заслонив макушку руками. «Славно, славно, давно я так не работал, — повторял запыхавшийся Бальзамир, зарываясь в земное чрево. — Заиндевел, мхом зарос, затвердел, брат, в суставах…» И он, головой вниз, съехал в могильную яму. Восковой нехотя сиганул вслед за ним. И, высунувшись в очередной раз из-за холмика, Пиздодуев никого уже не увидел, только фонтаны земли, бьющие из преисподней.
Гроб и ногтиНаконец все было кончено. Поддев гроб брезентовыми ремнями и выбравшись из могилы, пацаны стали его вытягивать. Гроб соскальзывал, вставал на дыбы, переваливался то на бок, то навзничь; в гробу телепало — покойник, тяготея к бренной земле, бился о крышу и об пол последнего своего жилища. Но и это было проделано — гроб стоял на краю ямы. Бальзамир жирным раствором из трав растирал разъехавшиеся локти; Восковой чистился, заделывал смазкой раны, кровоточащие смолой.
«Удивительно, — сказал Восковой, рассматривая перепончатую пятерню. — Ни один ноготь не обломался». Бальзамир заткнул пузырек пробкой и спрятал в карман брюк. «Немудрено, — произнес он и полез за футляром. — Все средства, предназначенные на последний квартал, в ногтяной проект угрохали. Нашим ногтям ничего, брат, не страшно — ни камень, ни лед. Но подпиливать надо, как ни крути, на концах зазубриваются». Он вытащил из футляра пилочку для ногтей и яростно запилил. Восковой вынул свою. Она сверкнула в томном свете луны микроскопическими кристалликами. «Лучше с алмазной крошкой», — сказал он. «Угу», — сосредоточенно отозвался Бальзамир, сдунув с перепонок костяную пыль.
У Пиздодуева свело ногу и занемело плечо, но двинуться он не смел — было ужасно тихо и нарушал безмолвие только стонущий звук от спиливаемых когтей.
«Вот так-то! — закончив пилить, прямо-таки взвыл Бальзамир. — А ты все бздел, говорил: Копающий! Мы и сами с усами! Что, сдюжили? Да мы, брат, горы с тобой свернем! Я тебя бздеть-то отучу!» Он заходил на вираж экстаза. Восковой даже подумал, не хватанул ли шеф трав из бутылочки, хотя и сам ощутил прилив болезненной эйфории.
ДушаБальзамир вдохновенно заговорил: «Да, брат, наезжаешь ты на людей, а я их, признаться, люблю. Вижу в них нечто такое, чего в тебе днем с огнем не сыщешь, — и он с некоторой брезгливостью посмотрел на Воскового. — Души в тебе нет, вот в чем дело. Ее безудержности и страсти. А говорил я ребятам: впрысните в него капельку человечьего эликсира, вочеловечьте чуток — для куражу, для размаха. А они мне в ответ: а где, мол, скажи, между живой и мертвой материей граница проходит? Как, спрашивают, ту пропорцию соблюсти, когда уже и не чурка бесчувственный, но и не человек еще? Откуда вообще то вещество таинственное берется, которое самое себя живым ощущает, со всеми вытекающими последствиями? Которое, так сказать, жизнь жизни дает? Ведь сама жизнь, вне материи, осознавать себя не способна, только через субстанцию, опосредованно. Да и что это за жизнь, которая откуда взялась — не знает, из чего состоит — не ведает, какие процессы в ней проистекают — понятия не имеет. Вот мы, говорят — именно потому, что тела наши незрячие, — регулировать наши процессы умеем, весь свой состав изучили, записанный в формулах. А вот жизнь… И такие вопросы стали мне задавать! Путаные. Одно слово — химики! Ничего тут не скажешь! — и Бальзамир безнадежно развел руками. — Положим, согласен, — в упоении продолжал он, — душа есть изъян. Она не признает гипотетического императива, прокламирующего целесообразность. Но о какой целесообразности может идти речь, когда ты имеешь дело с неконтролируемыми процессами, от которых зависим: перепады настроений, движение чувств. Да ведь так за собой не угонишься! Предположим, что для пользы дела тебе надо идти направо, а ты — природный — взял и предательски сиганул налево. Тогда позвольте спросить: где же ваша „свобода“? Неопровержимость „я“? Его ось? А-а-а! Это как душа поведет, — говоришь ты? И природа?» — Бальзамир схватил Воскового за грудки, приподнял над землей и потряс, хотя тот ничего подобного не говорил, да и вообще Бальзамира не слушал, так как та единственная мысль, к которой он был приспособлен, бороздила его чело.
«Натура непредсказуема и глупа! Она есть наш первейший враг! — вскричал Бальзамир и водрузил Воскового на место. — Да, — сказал он, немного угомонившись, — неуместность того, что зовется природой, да послужит для нас уроком. Ибо в чем ее „результат“? Он очевиден: сонмы бесполезных людей! Апофеоз избыточности! Но, с другой стороны, — явная недостача! Нехватка людей оптимальных, будто по мерке сделанных! Нет! Гармоничное общество — вот где мечта! Никого лишнего, остальных — по потребности. Нужен сейчас Строптивый — пожалуйста! Понадобились Настороженные? Извольте! Требуются Трусоватые? Получите! Каждый вовремя и на своем месте, произведен от вверенной ему функции. Наших пацанов хотя бы возьми. Каждый из них к одному лишь действию приспособлен, но зато как! Иллюзионисты! Фокусники! Кто истреблять, кто тырить, кто только вид делать, а кто и — выше бери! — так задурить умеет, что от него уж не люди — амебы в мутной воде сливаются, от прочих неотличимые. Такой от нашего Обдурилова вышел и уж не знает, он ли туда часом раньше вошел? А тут и ты на подхвате — с пустым всезнающим взглядом. Мол, не парьтесь, товарищ, — я бдю… бзжу… бдею! Вот это я понимаю — слаженная работа! Я ведь неисправимый идеалист, романтик!»
ВластьА Восковой обхватил гроб руками, налег сверху. Со стороны могло показаться, что он скорбит над покойником. «Власть…» — нашептывал он, поглаживая дубовый сундук и потираясь щекою о доски… Дальше, от «власти», слова понеслись сами собой, как по писаному, опережая мечтателя: «Спозаранку толкнем книжки в народ, ждут-не дождутся, лидеры, в петлю шеями лезут. Мозги бы им поменять, козлам, впрочем, как говорит Бальзамир, дело хозяйское. Кремлевских „убийц“ стихотворца — к ответу. Народ на расправу скор. Наши конкретно будут скандировать, это заметано. Гроб непременно открытым, и в головах я, поникший, с цветами… А если сам Пиздодуй внезапно объявится? Ну да пока ладно, после обдумаем. Подначиваем народ — наших везде понатыкано — и ждем, когда он на Кремль двинет… И чего меня Бальзамир как глисту в пищевод, через жопу пропихивает? Маньяк, блин. Я же ему говорил: дай мне что-нибудь непрезентабельное, хозяйственное — завхоз, например. А этот козел: я буду не я, если царем не сядешь. Сука, блин! — Восковой уже было проделал срамной жест, но слова понеслись дальше: — Потом, когда все будет кончено, Дезинфицирующих разошлем — чистить залы, палаты. После людей воняет. Куда ни взойду — воняет. Прав Бальзамир, хоть и сволочь, природа — вещь ненадежная, скользкая, тлением отдает. А сам как устроился — подправился там да сям и, смотришь, опять сухой, мертвый, подтянутый… Да! Ну и этот кремлевский проход, с бархатными коврами и позолоченной дверью. Порепетирую, как иду… Да, но дверь-то большая, а я маленький. Меня в микроскоп не увидишь. А говорил я козлу: „Смотри, ведь раскусят! Даром ли париться?“ А этот козел: „Не ссы, мол, замерзнешь…“ Да! И, говорит, твоя инагуа… ина… у-гу-ра-ционная речь: „Орнаментом фразы марево наведи, несуществующей логикой от обратного; не попадая в узор, бисером шей. Бей в угаре чечетку. Мускулами перед ними играй, не мозгами, которых у тебя и так нет (сволочь!). Потом вдруг — жахни в сердцах, точно пролаял, отрывисто и сердито. Будь саркастичен, скользок, востер, но только без распальцовки! Руки перед собой положи и клеем приклей! Лицо безучастным оставь — мимикой пренебречь, разве что желваками старайся! Словечки произноси, будто выплевывай, чтобы они, как сухой овечий горох, не липли друг к другу, круглились, отскакивали… Подача — удар, отбил — и бросок“…»