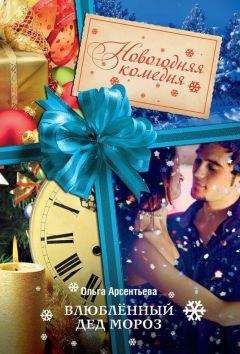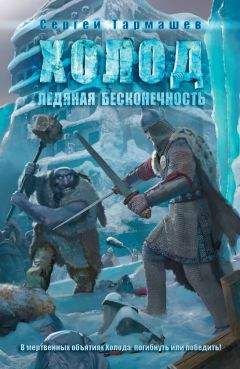Курилов Семен - Ханидо и Халерха
— И ты отделил немного и погнал их к себе?
— Нет, я стал от них убегать, в сторону. А они, наверно, думали, что я хочу их к табуну гнать, и, когда я поднялся на холм, они опять впереди оказались. Я опять в сторону, а они туда же. У самого тордоха я прогнал их далеко к речке — и скорее назад. Отца не было, а мать от обиды на Тинальгина вся задрожала. "За такую жестокость, — сказала, — Тинальгин умрет голодной смертью. Бог накажет его. Мы же умрем!" А было утро. Я не заснул — я собирался сделать зло Тинальгину. Как рассвело, я взял лук и стрелы и вышел.
Олени как раз подошли близко к тордоху. Я натянул лук. Упал один. Я за вторую стрелу — упал второй, потом за третью. И если бы мать не натравила собаку, оленей бы я положил столько, сколько стрел у меня было… Дядя Пурама, дядя Ниникай, ей-богу, о желудке не думал!..
Швырнув в сторону опустевшую флягу, Куриль вспыхнул:
— Хорошо сделал. Ну, настоящий богатырь из сказки! — Он встал и начал нервно шагать вокруг очага.
— Хорошо или плохо — это с какой стороны глядеть, — сказал Ниникай. — А вот воровства я не вижу.
— Какое же воровство! — поддержал его Пурама. — Он зло выместил. И ничего больше не сделал. О, господи: теперь мне и помирать не страшно… И все из-за этого началось?..
— Ничего плохого… конечно, — сказал раздраженно Куриль. — Ты на меня разозлился, схватил ружье — и к моему табуну. Бах, бах — и выместил зло! И мясо забрал… Мясо-то куда дели?
— Грех его оставлять было… — пробурчала старуха.
— Ну вот — я и говорю! Но это, я думаю, не из сказки уже? А шкуры тоже в дело пошли? На шубу?
Косчэ-Ханидо, все время прятавший глаза, вдруг вытаращился на своего отца-покровителя. Лицо его было бледным, удивленно-испуганным. И под этим отчаянным взглядом Куриль быстро погас.
— Как же так? — спросил Косчэ-Ханидо. — Все пустое? Выходит, мы зря говорим? Вы бросаете нас? Мне косы обрезали и бросаете? Нас же духи сожрут! Или хотите, чтобы я один с Какой рассчитался?..
Сидевшая за спиной Нявала старая мать тихо, по-детски захныкала. С ней опять могло произойти то же самое, что было вчера.
И тогда поднялся на ноги Ниникай. У него раздувались ноздри.
— Афанасий Ильич, — сказал он вроде бы очень спокойно. — Я в жизни, кажется, сильно ошибся. Ты слышал его рассказ и все-таки вором считаешь? Считай. Не можешь простить — не прощай. А я уезжаю. Я очень скоро покину Улуро. К чукчам, на пастбище своего отца вернусь. В долгу у тебя не хочу остаться: эту семью, Косчэ-Ханидо я к себе заберу. А ты вези в Среднеколымск честного Мэникана, учи…
— Я тоже, однако, уеду, — сказал Пурама. — Зятю хочу сказать: будет крещение — пусть они на меня не рассчитывают! Из тордоха не выйду. Я теперь вижу, куда будет повернута светлая вера…
На голову человека в тундре ничего не может упасть, кроме капель дождя и снега. Но на Куриля сейчас посыпались камни. От растерянности, боли и злости глаза его стали раскосыми.
— Замолчите! Замолчите все, — сказал он. — Кто слышал, что я назвал его вором?.. Захлопали крыльями, загоготали, как гуси… Сядь, Ниникай. Я понять хочу — можно соединить твою правду с моей?.. А веру я никуда не могу поворачивать…
Куриль говорил и правду, и неправду. Но главное — он шел на попятную и выкручивался.
Было отчего раскоситься его глазам. В самом деле: предстояло крещение, а тут ссора, скандал — Ниникай покидает Улуро. Ниникай же сильно влияет на чукчей, а чукчи и без того не очень-то ждут "светлую" веру. Знал Куриль нрав Ниникая — именно так, сгоряча, с налета он и может сделать решительный шаг.
И терять Пураму перед крещением тоже нельзя. Мало, почти нет у него верных людей. И еще ошпарили его слова Ниникая: "Посылай на учебу честного Мэникана". Мэникана чукча не раз называл дураком. Сейчас Куриль видел, насколько Косчэ-Ханидо умнее племянника, а уж об огне в сердце того и другого и размышлять было нечего.
Но разговор поломался, продолжать его было сейчас невозможно.
И все разбрелись — кто скрылся за пологом, кто вышел на волю.
Однако водка и хорошая еда звали к себе.
Успокоившись и обдумав все происшедшее, стали опять усаживаться к очагу.
На этот раз Косчэ-Ханидо упрашивать не пришлось. Он знал, что прощен, и сам вернулся на свое место.
— Ну, говори, дальше что было, — сказал Куриль.
— Расскажу. Только вам еще сильней не понравится это…
— Ничего, и к горькому привыкают. А мы привыкли.
— Вором меня назвал первым отец. Потом мать. Потом я был собакой, которую надо без конца бить, был чертом, двуногим волком — кем только не был. Страшно мне было. Тордох тогда был по-летнему широко расставлен — и низкая ровдуга давила меня. Опозоренным ама и энэ я боялся в глаза смотреть.
Вторую ночь я спал, как собака, на нарте… Но я об аркане не думал: трех оленей у Тинальгина нет — я расплатился с ним. Но надо было вылезать из грязной топи. И я придумал: надо найти оленей, отбившихся от табуна, и скорее гнать к Тинальгину. Жадный старик обрадуется и что-то подарит. Двух-трех оленей, думал, подарит. Подарок мы не возьмем, но будем считать, что взяли. Ама [96] согласился. И я пригнал к нему этих оленей.
Гнал бегом, запалил их так, что они чуть не на брюхах ползли. Тинальгину сказал, что пришлось от волков отбиваться, затем сказал, чтобы побольше подарок был. Что было со стариком! Изругал пастухов последними словами, меня накормил, велел высушить мои кулубэ [97], которые я намочил в болоте, а мне предложил лечь в его спальный мешок, сшитый из волчьих шкур. Но я только поел у него. А оленей он мне не дал. Только велел отвезти меня. Я, однако, сказал, что приучен ходить и бегать. Но тут Тинальгин что-то засуетился и вдруг изменил решение. "Послезавтра, — сказал, — приезжай с отцом на двух пустых нартах. Дам шкур на одежду, много мяса дам и оленя прирученного".
— Мы взяли, — вздохнув, сказал за сына Нявал. — Побоялись, что старик сам привезет подарок, увидит у нас лишнее мясо и разгадает правду. Привезли… Много он что-то дал: обещал одного, а дал двух быков, молодых…
— Неужели взяли? — переспросил испуганно Пурама.
Косчэ-Ханидо прищурился, улыбнулся:
— Мне ведь Тинальгин еще и ружье подарил, сын его Оппар подарил новенькое копье…
— Что Ниникай скажет на это? — спросил Куриль.
— Нет, — ответил за него Косчэ-Ханидо, — правильно никто не может сказать — ни ама Куриль, ни родной ама. За что он нас так одарил? За сотню оленей?.. Нет. За это Тинальгин только накормил меня и предложил полежать в его спальном мешке, пока штаны мои высохнут.
Все взрослые насторожились: у Косчэ-Ханидо была своя тайна, о которой не знали ни мать, ни отец. А чуть захмелевший Куриль насторожился по-своему — с чуть заметной улыбкой: все это становилось забавным, как сложный, хитро придуманный рассказ сказителя-ловкача.