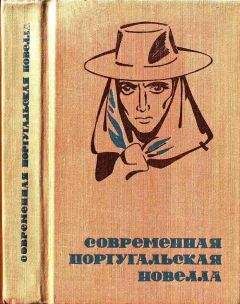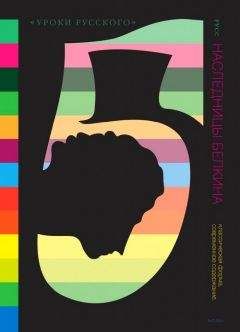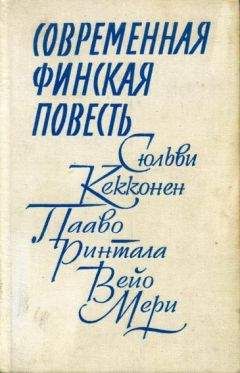Карлос Оливейра - Современная португальская повесть
Две почти прозрачные женские руки, пронизанные светом, чистили черный глиняный горшок.
— Это Констанса, — прохрипел Мы-я вместе с ветром с крыши.
— Она состоит в Организации?
— Да. Это женщина, которая ждет, ждет всегда (порой ждет того, кто никогда не придет), при виде ее лица стынет сама Смерть.
В дверь постучали.
— Должно быть, это Эрминио. Мне надо подогреть ему молоко, которое он так любит. «Когда я пью молоко здесь, в деревне, мне даже хочется заново родиться», — при каждом глотке повторяет он — в эту минуту он счастлив.
И Констанса бросилась поднимать засовы. Но на пороге показалась устрашающе высокая женщина; кожа ее была изборождена морщинами, на голове была черная косынка, в глазах — холодная скорбь, а в руках — окровавленный, гниющий сверток.
— Что ты принесла сюда, женщина?
— Это мой сын. Он заболел, я отнесла его в больницу, а когда я пришла навестить его, мне сказали: «Он умер. Забери его и похорони». Но у меня нет и пяти рейсов, чтобы купить клочок земли на кладбище… Вот я и пошла просить милостыню на похороны. Моему сыночку было пять лет.
— А где его отец?
Она пожала плечами, чуждая этим мелким житейским делам.
— Таким женщинам, как я, детей приносят слезы и голод… А мужчин нам не надо… Со вчерашнего дня я прошу на похороны сыночка…
— Я ничего не могу тебе дать, кроме своего голоса. Идем со мной в деревню, — предложила женщине Констанса, подавляя отвращение к этому свертку с костями, который нищенка прижимала к груди.
И Констанса закуталась в шаль, встала перед матерью умершего мальчика и приказала ей (наконец-то она перестанет ждать!):
— Иди за мной.
Поселок начинался недалеко от ее дома; он представлял собой нагромождение домишек из дикого камня, отапливаемых кизяком; здесь спали под шлепанье дождя пастухи, пасущие овец, — от них пахло овчиной.
— Кричи, женщина! Проси милостыню на похороны сына! — подбодрила ее Констанса.
И побежала будить звонаря, чтобы он ударил в колокол. Затем она влезла на колокольню и завопила во всю мочь, чтобы ее услышали полусонные сельчане в страшном кошмаре этой ночи, полнящейся истерическим завыванием ветра:
— Долой частную собственность на могилы!
А нищенка кричала свое:
— Проснитесь, жители села! И подайте милостыню матери, которая несет на руках мертвого сына и у которой нет двух пядей земли, чтобы укрыть его от собак!
Колокола зазвонили. И — одно тотчас, другое чуть позже — с медлительностью неверных лучей света начали нерешительно зажигаться окна. Зе Мельничный-Жернов, слепой упрямец, спустился по выбитым в скале ступеням, нащупывая дорогу палкой, и, ведомый подпаском, волосы у которого слиплись от безысходной нищеты, подошел к женщинам.
— Что стряслось? Пожар?
— Нет. Я прошу милостыню на погребение моего сыночка, у которого не было земли при жизни, нет и после смерти.
Какая-то девушка, в белой юбке, с длинными косами, настежь распахнула дверь одного из домишек, сложенных из необоженного кирпича, и проворковала опечаленно:
— Надо отпеть христианскую душеньку! Позовите священника!
И в то время как колокола неистовствовали в набатной тревоге, мрачный кортеж в дождливой ночи становился все длиннее и длиннее.
— Подайте милостыньку на похороны сыночка, — уже без слез плакала мать, а следом за ней шла озлобленная деревня — шли высохшие старухи в черных косынках, концы которых временами разлетались и становились похожими на тяжелые крылья летучих мышей, шли девушки, горящие жаждой земных радостей, шли бродяги с чертополохом в волосах, и даже Гулящая, которая спихнула с тюфяка очередного прохожего и радовалась сейчас тому, что наконец-то поняла, почему она отдает свое убогое тело всем и каждому в порыве любви, жесткой как дрок.
— Это наше знамя! — подумала Констанса, с торжеством взирая на сверток с окровавленными костями, который Мать поднимала, с гордостью бросая вызов призракам. — Сейчас мы пойдем с горы на гору, из долины в долину, мы покажем его всему миру, чтобы побудить его к восстанию и спасти не знаю от чего.
В эту самую минуту морщинистый и вшивый простофиля, которого в деревне прозвали Старой Ведьмой, присоединился к кортежу с фонарем в руках и закричал:
— Мы похороним его на кладбище и без священника! Все равно бог видит нас — он глядит на нас с небес миллионами звездных очей!
Мы-я и Ты-никто, обнаженные и невидимые, пожирали глазами это шествие покойников, которые через равнины и дубовые рощи слали проклятия Ночи, горя желанием, чтобы кто-нибудь помог им воскресить мальчика, чьи кости уже сгнили. Затем оба вошли в первую же пещеру, попавшуюся им на горной дороге, и растворились во мгле, чтобы в тишине скользить по скалам, — скользить так, словно они были созданы из текучей плоти. Затем, обнявшись, они, как обычно, полетели во мгле, в которую превращалась планета.
— Куда мы направляемся? В Царство Мглы?
— Что за вопрос? Разве ты не просила меня показать тебе чудовищную нищету мира, в котором мы живем?
— Просила. Но нищета, которую я испытала, снова и снова убеждает меня в бессмысленности жизни. Как хорошо было бы существовать, но не жить!
Они еще разговаривали? Или они стали понимать мысли друг друга, а слова и звуки уже были им не нужны?
Мы-я вздохнул:
— Не может быть, чтобы кто-нибудь чувствовал себя более несчастным, чем я!
— Это из-за той матери, которая ходила по дорогам и просила подать ей на похороны сына?
Мы-я и Ты-никто пошли по садовой лужайке, потом, по-прежнему держась за руки, зашагали по аллее, заросшей жимолостью.
— Нет… из-за того, что я дал умереть Леокадии и Эрминио. Я не подстраховал их вовремя с воздуха, как следовало, а сделай я это, смерть для них стала бы прыжком в сон, от которого они пробудились бы через несколько мгновений.
— Кто убил Эрминио?
— Полиция утверждает, будто он покончил с собой. Но «самоубийство некоторых людей» — это специальность ловкача Силведо, который тем не менее ручается, что Эрминио погиб в результате несчастного случая. Случая, заранее подготовленного, — тут сомневаться не приходится. Самое во всем этом странное, — продолжал Мы-я после минутного, горького молчания, — самое во всем этом странное то, что после гибели Жулии и Эрминио Силведо вскоре покончил с собой. В какие-то мгновения смерть идет по цепной реакции.
Ты-никто обняла его, словно желая защититься от опасности жить.
— Смерть… Вечная смерть… Как это ужасно!
— Все там будем, — ласково, хотя и не к месту сказал Мы-я.
И они замолчали. Лишь несколько минут спустя Ты-никто заговорила снова, счастливая тем, что еще дышит:
— Куда ты ведешь меня?
Не отвечая, Мы-я заставил ее подняться по большой холодной лестнице. Оба почувствовали этот холод в ногах, стынувших, как мрамор. И тотчас же очутились в теплых гостиных, устланных мягкими коврами из дорогой шерсти. Уже одним дуновением Мы-я предупредил Ты-никто:
— Сейчас мы прорежем мглу и увидим действительность, в которой живут другие люди… Но мы по-прежнему останемся невидимками.
В одно мгновение завеса разорвалась, и они тотчас увидели, что находятся во дворце, где яркий свет умерялся фиолетовыми кружевами. В приемной было много народу Высшего Церемониального Качества. Здесь были трясущиеся старики, с плеч которых уже ниспадали роскошные саваны и которые готовились перед зеркалами к тому, чтобы сорвать кожу с черепов; здесь были плоскогрудые дамы, соломенные куклы в треуголках, послы со шпагами черного золота, здесь стоял аромат шелестящего розмарина, а оркестр скелетов играл под сурдинку марш погребальной бюрократии. И с торжественной медлительностью опираясь на серебряный жезл, увитый крепом, элегантный дворецкий во фраке с серебряными черепами, вышитыми на отворотах, благоговейно объявил согнувшимся в поклоне присутствующим:
— Его сиятельство граф Гнилая-Душонка принял Последнее Причастие из рук Его Преосвященства, Епископа Закрой-Глаза-Навеки.
Спины подобострастно согнулись.
— Он идет. Он будет присутствовать при смерти бедняги.
И оба, тонкие, как призрачные клинки, прошли сквозь стену и в спальне графа стали у изголовья кровати, на которой умирающий дворянин дышал уже с трудом, в то время как Епископ с ободряющей мягкостью, требуемой кодексом святых, шептал ему:
— Смиритесь, сын мой. В скором времени вы будете на небесах.
— На небесах? — усомнился граф, выражая отчаяние так, как подобает хорошо воспитанному человеку, и внимательно следя за появлением малейшей складочки на простыне, чтобы ее разгладить. — Дорого бы я дал, чтобы уверовать в небеса, Ваше Преосвященство. И представить себе ничего этого не могу! Да и что я сделал такого, чтобы заслужить небесное блаженство? Я почти всю ночь глаз не сомкнул: я опять и опять возвращался мысленно в прошлое — я пытался вспомнить, какое добро я сделал в своей жизни. Ничего я не сделал, Ваше Преосвященство! Ни Добра, ни Зла. Только разные пустяки.