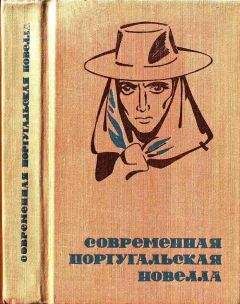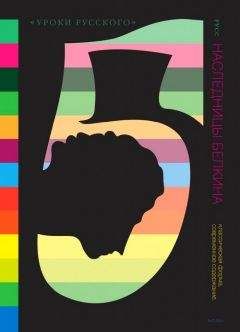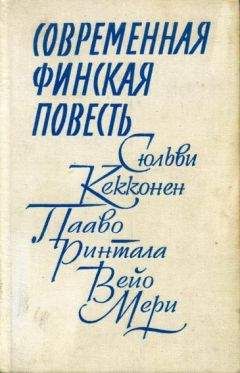Карлос Оливейра - Современная португальская повесть
А Силведо не замедлил разыграть комедию до конца. А вдруг тот клюнет.
— Я очень хочу видеть твою мать. Можно, я пойду с тобой?
Эрминио заколебался, не сказать ли ему правду: «Нет. Моя мать тебя презирает». Но со второго захода сдался:
— Ну, ладно… За лачугой, в которой она живет, не установлена слежка?
— Нет.
— Тогда пошли.
И Эрминио с какими-то радостными угрызениями совести и будущими сожалениями вспомнил о высоком каменистом береге, об устричных раковинах, налипших на стены пропасти, — неподалеку оттуда стояла лачуга, а в этой лачуге жила его мать, бедная старушка, руки и ноги которой были изуродованы долгими годами одинокой жизни в сырости и которая вечно ждала, чтобы ее навестил сын, ушедший в подполье.
— А все-таки — хоть бы он не пришел! Хоть бы он не пришел никогда — ведь иначе его арестуют!
Чего еще ждал от жизни этот скорчившийся от боли и ушибов комок лохмотьев, кишащих насекомыми, комок, живущий подаяниями старьевщицы, которая прозябала в соседней лачуге?
— На вот, покушай супчику, тетушка Ана.
И старуха, глотая вместе со слезами и вздохами воду, в которой плавала капуста, выращенная в верхней части каменоломни, — там, где еще была земля, — одновременно пережевывала вечную проблему:
— Эти негодяи все еще следят за моей лачугой, правда? Они хотят поймать моего Жозе. Но они ошибаются. Он не придет.
И истерически вопила:
— Не приходи, Жозе! Не приходи! Не приходи!
В эту ночь одна старуха, держащаяся очень прямо, с гребешком в виде полумесяца в волосах, зашла к ней в хибарку и начала проповедовать:
— Здесь забыли бога!
Тетка Ана, вцепившись в жалкое соломенное ложе, приподнялась на покрывавшем его тряпье и выгнала ее, накричавшись до кровавой пены:
— Убирайся отсюда! Я знаю, что не увижу больше моего сына! Никогда не увижу! Даже на небе — ведь для бедняков небо существует только пока они живут на земле. Но мне все равно. Не приходи, Жозе! Слышишь? А ты убирайся, убирайся отсюда, дрянь!
Дождь меланхолически капал на редких прохожих, шлепавших по лужам на грязных дорогах, пролегающих по скользкому, высокому берегу.
— ЗДЕСЬ ЗАБЫЛИ БОГА!
На следующий день, в Синтре, Фракия спустилась в сад за сложенной вчетверо газетой, которую каждое утро почтальон бросал через стену.
Испытывая чувственное утреннее удовольствие — наслаждаясь хрустом хлеба, поджариваемого к завтраку, — «лиссабонский хлеб самый вкусный», — она развернула «Ежедневные новости» и с ужасом прочитала последнюю новость:
«…найден на дне водомоины труп мужчины. Была установлена личность Жозе да Силвы, с давних пор известного в подрывных кругах под именем Эрминио-Велосипедиста. По всем признакам, он шел навестить мать, которая жила в близлежащей лачуге. Таким образом, приходится говорить о несчастном случае, поскольку ночь была темной, а место — очень скользким из-за продолжительного дождя. Полиция ведет расследование».
Взгляд Фракии стал холодным. «Это из-за Леокадии», — подумала она с тупой черствостью женщины, давно разучившейся плакать. «Глаза лучше видят сквозь слезы» — кто это написал? Быть может, Ленин. А может, Карл Маркс. Она покачала головой. Что за чушь! Ленин никогда не плакал о себе. Не плакал Гевара. И Фидель тоже. Плакать можно только о народе. А сейчас и плакать не о чем. Долой слезы, пролитые зря! Они реакционны. И она все глубже и глубже погружалась в мертвый сон, в котором струилась грязная река ее детства. «Раздевайся. Сейчас я мог бы убить тебя, если бы мне захотелось».
В воде, наполнявшей таз, что стоял в мансарде у Фракии, плавал лунный блик, а в нем — лицо Эрминио, и пот, что смывала она со своего поруганного тела, превращался в невинную воду.
XII
Мы-я проснулся от рыданий Ты-никто, обнимавшей его так, как земля облегает мертвых — мертвые чувствуют это. Тишина раздвигала тьму, и нельзя было понять, где кончается тело.
— Ты-никто! Учись не плакать! Что с тобой?
— Я чувствую себя беззащитной, ненужной. Не знаю, как тебе это объяснить. Я как незрячий корень, которому валун мешает проникнуть в землю и не дает вырасти живым цветам, что он несет в себе… — Но тут она, успокоившись, мысленно сделала вывод: «Все это только сон. Как хорошо!»
Мы-я попытался мягко подбодрить ее:
— Быть может, ты скоро услышишь — и это проникнет в самую глубь твоего существа — великое откровение, которое придет из Царства Мглы, чтобы предшествовать Революции-Которая-Не-Лжет. Последней Революции, в которой труд покажется бездельем, а смерть — пустым сном.
— Но каким образом? Мне так скучно!
— Это одно из самых сильных наших средств борьбы: скука, отвращение, тоска (которую один из наших философов назвал космической), ненависть к тому, что мы живем так, как живем, — с поездами, которые всегда приходят по расписанию, и со звездами, которые строго следуют установленному порядку, чтобы не натолкнуться друг на друга. Если эту скуку использовать правильно, она покончит со старым миром, и на его месте вырастет новый, совсем другой, героический и бурлящий.
— Я не верю в преображение человека. И это меня мучает, — призналась Ты-никто. — У меня не хватает терпения, чтобы надеяться…
— Терпение равноценно Любви, — напомнил ей Мы-я. — И еще не забывай об одном из самых важных правил из наших десяти заповедей: «Не пожелай абсолюта».
Ты-никто немедленно заработала языком: «Не плачь; не бойся Смерти; не предавай; не питай ненависти к врагу, чтобы обрести возможность полюбить его в будущем, не испытывая угрызений совести; убивай только в том случае, если сможешь воскресить свою жертву…»
Мы-я прервал ее одобрительным смехом:
— Наши истины уже у тебя в крови — можно подумать, что ты сама сотворила их.
— И все-таки мне чего-то недостает. Мне нужно видеть конечную цель всего, что ускользнуло от меня и что всегда ускользало от людей сквозь времена. Ах, если бы мы могли отыскать ее!
Несколько минут Мы-я раздумывал. А потом мягко, но решительно заговорил, нащупывая камни преткновения, о которые спотыкалась Ты-никто; он хотел рассеять ее сомнения:
— Ну, что до меня… Ладно, так и быть… Больше всего удручает меня неспособность человечества добиться освобождения планеты от голода, от клеветы, от лжи, от злобы, от физических недугов, от страданий детей, от лицемерия…
— От нищеты. Но существует ли еще нищета, которая может так тебя огорчать?
— Существует ли! Сразу видно, что ты не читаешь статистических справочников и что мир для тебя ограничивается несколькими километрами в ту и в другую сторону в Европе, где нищета приматов с вертикальным кровообращением не бросается в глаза. Но стоит посмотреть чуть более внимательно — и ты обнаруживаешь чудовищные вещи, происходящие от расширения границ Мглы, находящейся внутри каждого… Хочешь произвести опыт? Пойдем со мной… Вести из Царства Мглы все еще заставляют себя ждать…
— А каких вестей из Царства Мглы ты ожидаешь?
— Быть может, откровения о конечной цели жизни нашей планеты — откровения, которого ты ждешь с таким нетерпением, а мы все знаем, каково оно в конечном счете… Но мы хотим услышать его от звезд. И мы должны услышать его — и ты, и я, — услышать, крепко обнявшись, — мужчина-женщина, начало и конец в самих себе… Но сначала пойдем со мной и научимся ходить по земле, которая принадлежит нам… Идем…
Они взялись за руки и уверенно зашагали в темноте, — теперь воцарилась полнейшая идиллия. О том, что место действия менялось, они узнавали только по тому, как менялась поверхность, по которой они ступали. Ковры, мрамор (внезапно зазвучала месса Баха си-минор), скрипучие полы, нагретый асфальт шоссе, болота, колющий ноги чертополох, мелкий песок, скользкие откосы, земля, посыпанная щебнем, по которому больно идти…
— Приготовься: ты увидишь небо и звезды, — предупредил девушку Мы-я. — На несколько мгновений мы теперь будем возвращаться в мир из реального не-мира. Но другие люди по-прежнему не будут нас видеть…
«Все это сон, — упорствовала в своем бреду Ты-никто. — Я слишком много выпила, а мать, как всегда, стоит у окна, напряженная, мертвая, и ждет Меня-никто… Действительность бывает только одна».
Звезды засияли между верхушками сосен, стоявших вдоль дороги, ведущей к Соломенной Хижине.
— Это одно из убежищ наших людей — тех, кого преследуют. Иди за мной.
Оба проникли сквозь пропахшие селитрой стены и пошли по утоптанному земляному полу деревенской кухни, где из года в год одно за другим голодные поколения крестьян ели похлебку из овощей с кукурузным хлебом. В закопченном очаге горел огонь страстей, заключенных в крови дров, а ветер, дующий в щели, шевелил ничем не прикрытые, растрепанные языки пламени.