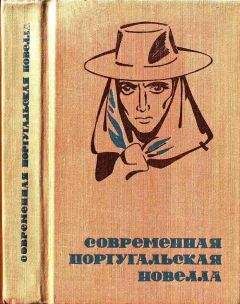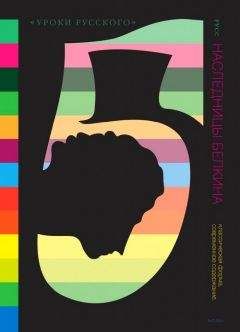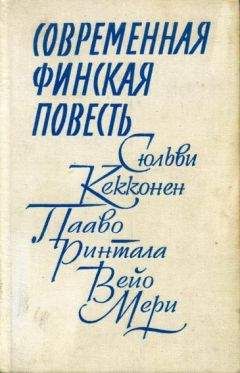Карлос Оливейра - Современная португальская повесть
— Ну конечно, все это для виду, — продолжал собеседник с довольной улыбкой человека, воображающего лучшую жизнь. — Все это чистая комедия! Ибо в тот момент, когда зачитывается приговор, — а закон-то у нас шифрованный, — судья вынужден будет подмигнуть публике. А публика, увидев это подмигивание достопочтенного судьи, мгновенно понимает все. И тут начнется давка: для того, чтобы еще больше накалить гуманную атмосферу в зале суда, все бросятся обнимать преступника и поздравлять его с тем, что тот избежал электрического стула, газовой камеры или гильотины. Понятно?
Дым и гомон кафе делали мир совершенно безнадежно алогичным и пустым.
— Понятно, понятно. Ну а дальше что?
— А дальше, перед тем как выйти на волю, ложно оправданный должен будет выполнить кое-какие формальности в кабинете судьи, который, согласно этому тайному закону, вынужден будет, легонько похлопав того по плечу, осведомиться о его здоровье: «Что это с вами? Вы так бледны! У вас голова разболелась? Ну, это вполне естественно». — «Да, голова у меня здорово разболелась. Но это пустяки. Это скоро пройдет». Судья, однако, будет настойчиво ласков, согласно статье номер семь, а сам в это время мысленно будет составлять акт и подбирать нужные печати для свидетельства о смерти. «Ну конечно, пройдет! Но на всякий случай надо бы вызвать врача, как вы думаете?» — «Думаю, что да». И вот сейчас же приходит пунктуальнейший врач (иначе говоря — палач) с изящным чемоданчиком — это чтобы сойти за врача. Он тщательно исследует оправданного, просит его показать язык, щупает ему пульс и наконец прописывает ему аспирин. «Смотрите-ка: по чистой случайности я захватил с собой таблеточку. Принесите мне стакан воды». Незадачливый «счастливчик», полностью возродившийся к новой жизни, в восторге от того, что живет среди ангелов в тогах, довольный тем, что вышел сухим из воды, схватит таблетку и, без колебаний, с улыбкой на устах, спокойно проглотит растворенный в подслащенной воде яд, с помощью коего приговор приводится в исполнение.
Поднялся общий хохот, а между тем тот, кто в этом кафе вел счет различным фантазиям, приходившим в голову его посетителям, потягивался и брюзжал:
— Ох, как скучно быть жестоким! Или добрым! Или злым! Или самым плохим! Какая скука!
А между тем за соседним столиком сеньор Ретрос уже целую вечность — вечность без времени — слышал звуки какой-то скрипки, сам не зная, откуда они доносятся, — эта скрипка будила мертвых детей. Одна из них была изнасилованная девочка — горбатенькая, чтобы сеньор Ретрос не так мучился.
XI
После вскрытия тело Леокадии, или, вернее, Жулии да Силва, при жизни — учительницы начальной школы, передали родным, — так сообщали газеты. Тело отнесли в лачугу, где жила ее мать, бывшая поденщица, которая состарилась еще в молодости — как будто для того, чтобы дольше ждать утешения, приносимого смертью, и теперь жила милостыней и прокисшей едой, что уделяли ей семьи среднего достатка, на которых она работала в прежние годы, казалось, состоявшие из закопченных дочерна кастрюль, раковин, мусора и ночных горшков с нечистотами. Закутавшись в черное покрывало, ниспадавшее до самого пояса, она прижалась головой к сосновому гробу и время от времени гладила его сморщенными пальцами то нежно, то яростно. Она оплакивала свою несчастную судьбу:
— Бедная я, несчастная! Никогда уж мне не увидеть больше мою Жулию! Кровинушка моя, свет очей моих, горюшко мое! Никогда, никогда больше я тебя не увижу!
Соседи и соседки сидели на корточках на полу, изъеденном червоточиной. Некоторые из них зажгли свечи, вставленные в подсвечники из черной глины, и расставили их, согласно какому-то неизвестному ритуалу, вокруг гроба.
Одна старуха в шлепанцах и в черном платке жгла в большой глиняной миске волшебный розмарин и вслушивалась в шелестящий шепот молитв и псалмов, которые сгущали тишину, притаившуюся в гробу.
— Никогда больше не придешь ты к своей матери! Никогда ты меня не утешишь, не скажешь, что жизнь еще улыбнется мне, что меня поцелуют мои внуки. А я уже такая старенькая, что не видать мне иной судьбы. Старая рухлядь — вот кто я такая! И судьбой этой я сыта по горло. И работой сыта по горло. Отчего ты умерла, доченька? Тебя убили? Ответь мне: убили тебя? Убили?
Но ничей голос не донесся сквозь сосновые доски, обитые мрачной фиолетовой материей.
— Ответь мне, доченька! Тебя убили?
Внезапно дверь заскрипела, и в каморку со спертым воздухом, пропитанную слезами призрачных плакальщиц, лившимися из глаз на стены, вошла высокая женщина в черной блузе, с гребнем в форме ущербной луны в волосах, и страшно, пронзительно закричала так, словно настал конец света:
— Здесь забыли бога!
Некоторые старушки, охваченные ужасом, опустились на колени. Заученные слова молитв, которые читаются хором, выделялись четко и яростно:
— Отче наш, иже еси на небесех…
— Богородице, Дево, радуйся…
— С нами бог…
— Пресвятая Богородица, спаси нас!
— Здесь забыли бога! — снова надрывно закричала старуха, гневными глазами которой глядела мертвая религия. — И эта женщина отправится в ад!
Она показала на гроб. Вокруг гроба подавленные соседки растворялись в дыму стонущего ужаса.
— Богородице, Дево, радуйся…
— …Иже еси на небесех…
— Хлеб наш насущный даждь нам днесь…
И старушки были довольны, что повторяют волшебные слова, что жгут розмарин, — мертвая латынь, траурные огни, — и ныли их колени, натертые на ступенях дворцовых лестниц, которые мыли они, поденщицы, сметающие паутину с небесных звезд.
Одна только мать Леокадии, казалось, не испугалась голоса подбоченившейся Обвинительницы. И глаза ее, покрасневшие от слез, которыми она оплакивала свою дочь — поверженное знамя, — все ласкала гроб, и она все говорила с дочерью, и в словах ее смешивались пот, глиняная пыль и гордость тех, кто создал планету своими руками, иссохшими, как у скелетов, и соприкасавшимися в глубинах рудников.
— В аду ты жила, доченька. В аду и твой муж. В аду я жила всю жизнь, Жулия. Жила и живу. В том аду, где пламя, что жжет наши грешные души, — это слезы.
Тем временем Эрминио, выполнив свое ежедневное задание — он распространял подпольные газеты, — не смог воспротивиться желанию взглянуть на дом, где лежало тело Жулии. Издали, на углу (место, за которым должна была быть установлена слежка), он различил коленопреклоненную фигурку, подсматривающую в окошко каморки, в котором вместо одного из стекол была вставлена картонка, шуршащая на ветру.
— ЗДЕСЬ ЗАБЫЛИ БОГА!
— Это он! Убийца, сволочь! — разъярился Эрминио; сердце его было источено скорбью и ненавистью. — Это Силведо!
И он осторожно (почему он не убежал? — ведь он обязан был убежать) подошел к шпиону и неожиданно положил ему руку на плечо:
— Ты мой пленник.
Испуганный Силведо обернулся, но, как только он увидел Эрминио, ему захотелось ухмыльнуться: он был переполнен той желчью, которой люди, считающие себя сильными, оплевывают жизнь, когда чувствуют себя униженными.
— Привет, Жозе, — поздоровался он, делая вид, что обрадовался, как велит устав Организации. — Не знаю, помнишь ли ты еще это имя, которое я всегда произносил так: Жозе — напирая на «о». Мы с тобой были друзьями.
Он мило улыбнулся. Но скоро к нему вернулась его агрессивность, взращенная за долгие годы неистово свирепствовавшей бюрократии:
— И ты раньше называл меня не Силведо, а Жоаном.
— Да, в детстве. Мы были соседи. Ты помнишь? Среди ночи ты разыскал меня и неожиданно сказал: «Я пошел в полицию. Они угрожали мне, приставали с ножом к горлу, и я не устоял. Я рассказал им все, что знал. Донес на всех, кроме тебя. Я надеялся, что ты захочешь быть моим другом по-прежнему».
— Я помню. Чтобы выуживать у меня сведения…
Тут Силведо решил разыграть комедию, достойную его.
— Как? — слащаво заговорил он. — Я никогда не смогу прийти к тебе? Никогда не смогу поговорить с тобой? Но ведь я так люблю и тебя, и твою мать тоже. Особенно твою мать…
Но эта медоточивость не обманула Эрминио, не покидавшего оборонительных позиций.
— Это невозможно. Неужели ты не понимаешь, что это невозможно?
— Я приду повидаться с тобой тайком, так, что об этом никто и не узнает. Ни твои друзья, ни мои. Ночью. Ты не говори старушке правды. И разреши мне время от времени прийти поцеловать ее. У меня ведь нет матери. Позволяешь?
Тут Силведо тихонько захихикал в темноте и вроде как всхлипнул. Почти счастливый. Счастливый от того, что вспомнил мать Эрминио, о которой, по правде говоря, давно уже не вспоминал, — он, этот лицемер до мозга костей.
Эрминио, со своей стороны, изменился в лице, разгневанный, напуганный тем, что в словах Силведо была какая-то ненужная искренность, — в этих словах, в которых Эрминио хотел чувствовать только ложь, цинизм, фальшь, издевку и всякую пакость…