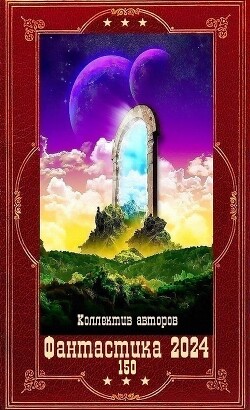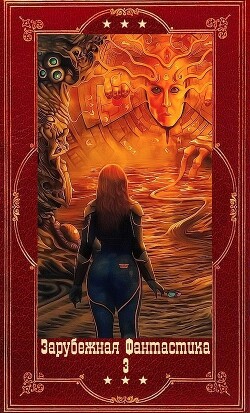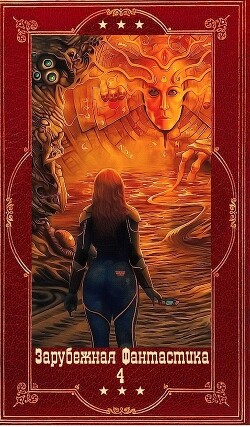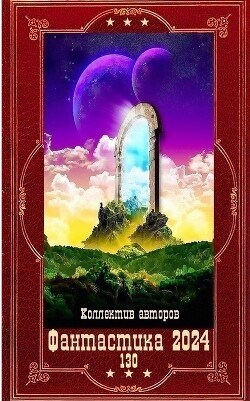Угол покоя - Стегнер Уоллес
Неожиданно Эд поднялся с кресла.
– День‑то не наш сегодня, проиграем. Я сухими соснами лучше займусь. Тебе их как – на дрова распилить?
Чудесный человек Эд Хокс. Уйму всего понимает без слов. Одним простым вопросом нейтрализовал излишнюю заботливость наших женщин, помог мне кое‑как совладать со своевольной культей и с нервозностью из‑за таблеток и дал возможность небрежно ответить:
– Да, конечно, зимой немало дров уйдет.
Он вышел, попрощавшись со мной одними бровями и вежливо кивнув Эллен. Она едва обратила внимание на его уход. Ее глаза были на мне, и поэтому я слегка отвернулся, сосредоточился на игре. Слышно было, как снаружи Эд перемещает дождеватель, а потом бежит со всех ног, чтобы не попасть под его подвижную струю. Через пару минут зафырчал его пикап, и он уехал.
Я переменил положение, потому что боль поднималась по кости от перепиленного места и ввинчивалась в бедренный сустав, и, повернувшись, увидел, что Эллен все еще смотрит на меня, как красотка по имени Лу [167], как леопард на дереве, как ружье, висящее на стене.
– Ты, значит, тут зимовать намерен, – сказала она.
– Конечно.
– Мне казалось, с этим есть некая…
– Сложность? – спросил я. – Никаких сложностей не вижу.
Ведь мне, в отличие от тебя, безразлично мнение Родмана и этого врачишки. И не скашивай глаза на увечные лапы Ады, не прислушивайся к ее сиплому дыханию. Она сильна как лошадь, она куда дольше протянет, чем я.
Мое внимание сместилось. Я увидел, что мои приверженцы и защитники поднялись на ноги, все скопом – Шелли решительно и пружинисто, Эл проворно следом, чтобы не сидеть при стоящей даме, Ада медленно и со стоном, просовывая шишковатые ступни в давно принявшие их форму ворсистые шлепанцы. Она неприязненно посмотрела на Эллен Уорд.
– Посуда‑то ведь сама себя не вымоет, – сказала она. – Шелли, пособишь?
– Я подумала, я лучше письмами пойду займусь.
– Какими еще письмами? – сказал я. – Какая еще посуда? Садитесь обе, не надо. Суббота же. Не уходите.
– У меня письма из Грасс-Вэлли не разобраны за пятнадцать лет, а времени не так много, – сказала Шелли.
– Не так много времени перед чем? – спросил я.
– Учеба через десять дней начинается.
– А я думал, вы…
Улыбаясь, она предупреждающе нахмурила брови: не при маме. Я заткнулся, но она разозлила меня – зачем было упоминать о расставании? Весь наш разговор должен подчеркивать безопасность и уют привычного хода вещей.
– То, что было в Грасс-Вэлли, в голову не берите, – сказал я. – Это уже не важно. Все это – после.
– После чего?
– После всех событий, – сказал я раздраженно. – После всего, что было мне интересно.
– Ведь они, кажется, поселили тут множество людей после пожара и землетрясения в Сан-Франциско? Я только бросила взгляд на эти письма, там, по‑моему, есть кое‑что об этом.
– Да, – сказал я. – Какая разница? Сядьте, сядьте. Посмотрите игру.
Но ей, наглой девке, было плевать на мое отчаянное положение. Поглядела на меня, наклонив голову набок, и сказала, что если работать сегодня не надо, то она, пожалуй, пойдет домой мыть голову. Смуглоногая в своих шортах, выпукло наполняющая трикотажную водолазку, она улыбнулась Эллен, пробормотала “до свидания” и ушла.
Ада уже подняла пивной контейнер и прижала к животу. Ее руки неловко надавили на крышку, и она откинулась. Ада закрыла ее обратно. Ее пальцы скользили по пенопласту, скребли его, последние фаланги были вывернуты под мучительными углами. Своды ее перегруженных стоп просели лодыжками внутрь, шлепанцы с дырками, дающими пространство распухшим суставам больших пальцев, волоклись по полу, как покалеченные зверьки. Ничто из этого не укрылось от глаз Эллен Уорд.
Кряхтя, Ада преодолела порог и вошла с веранды в дом. Эла Саттона она тем самым оставила одного со мной и Эллен, и ему не терпелось смыться, как я ни упрашивал его остаться, глотнуть еще пивка и поболеть за “Джайентс”, помочь им набрать очки.
– Беж шаншов, – прошепелявил Эл. Он был болезненно смущен, принужденно смеялся, дергал плечами, достал из кармана рубашки свои четырехфокальные очки, напялил их, стал было смотреть сквозь них телевизор, отшатнулся, воскликнул: “Божешки!”, сдернул их, виновато захохотал, сунул их в карман, тут же вытащил и опять надел, поглядел через них на меня, потом на Эллен и еще раз гулко хохотнул, словно простонал. Спустил очки на нос, и глаза, которые за линзами перекатывались и изменялись, будто глаза чернокожих кукол, в каких вам на окружных ярмарках предлагают кидать бейсбольные мячи, теперь посмотрели на нас со страдальческой сердечностью и извиняющейся добротой. Отступив, он случайно сдвинул кресло.
– Упш, пардон, – сказал он, возвращая его на место. Меж губ возникла бородавка и всосалась обратно, исчезла в сладкой идиотской улыбке. – Нет, вшё, потопаю отшюда, пока что-нить не порушил, – сказал он. – Приятно пожнакомиться, мишшиш Уорд. Лайман, друг, бывай.
Он сумел было ухватиться за ручку сетчатой двери, но выпустил ее, дверь хлопнула, он рывком снова ее открыл, наткнулся на ее край, миновал ее наконец и, пародируя собственную неуклюжесть, втянул голову в плечи, напряг покрасневший загривок, широко распахнул рот и на цыпочках, гулко хохоча, высоко поднимая ноги, ушел – а я остался с бейсболом и бывшей женой.
Чахлый, усохший, безнадежно живой обрубок все еще трепыхался, как я ни жал на него руками. На лужайке дождеватель привлекал к себе внимание: пст! пст! пст! – как заговорщик в мелодраме.
Так! – сказали мне мой страх и моя злость, и я повернул кресло, чтобы встретить ее с открытым забралом. Она не была к этому готова; нахмурила брови, глядя вниз, на свои руки и сумочку, как будто на что‑то решалась. Я заорал на нее мысленно: “Как ты смеешь являться сюда, сидеть у меня на веранде, распугивать моих друзей! Как ты смеешь тут рассиживать, будто приглашена или имеешь право! Ты что, совсем забыла, как поступила со мной? Совсем стыд потеряла? Что тебе здесь надо? Что еще хочешь у меня забрать?”
Она сказала своим бледным ладоням:
– Насчет того, чтобы остаться на зиму, это не может быть серьезно.
– Еще как может, – сказал я, и вот они, ее глаза – один быстрый открытый взгляд, – темно-синие, знакомые, ошеломляющие. Мне трудно описать, как это бывает, когда смотришь прямо в глаза, которые когда‑то так хорошо знал, лучше собственных, а потом отринул, намеренно забыл. Эта мгновенно восстановленная близость, возврат того, что кажется дружелюбным участием, – это смахивает на оголение, на вспышку наготы. Та, кого я презирал и кого боялся, вдруг будто распахнула платье и с улыбкой показала всю себя, как бы спрашивая о чем‑то и приводя меня в ярость, заставляя скрипнуть зубами. Один короткий взгляд, и только. Я сильней нажал на культю и сказал себе: о нет, будь осторожен!
– Кто тут будет за тобой смотреть? – спросила Эллен Уорд рассудительным тоном, каким вразумляла подростка Родмана, когда он хотел мотоцикл или требовал отпустить его автостопом со смешанной школьной компанией, чтобы он мог провести пасхальные выходные на морском берегу в Карпинтерии или Ла-Хойе. – Это просто-напросто неразумно. Молодая уедет – и, как по мне, слава богу, – а пожилая сигарету не может держать, до того изувечена. Уронит тебя, и будет перелом бедра или еще чего‑нибудь. Ты не перенесешь, дорогой мой, ничего сверх.
– Я перенесу все, что надо перенести!
Она опять подняла глаза, оценивающе оглядела меня, прикованного к своему креслу. Я жестко давил обеими руками, но газета под ними тряслась и шуршала. Она улыбнулась, чтобы меня подбодрить; затем ее глаза покинули меня и обратились к телевизору. Она привстала.
– Выключить или оставить?
Я не отвечал, глядя на нее с вызовом и отчаянием. Она щелчком убрала несвязное мельтешение и чужеродный шум, которые были моими союзниками.
– Ладно, вернемся к этому позже. – (Позже?) – Раз уж я здесь, может быть, покажешь мне тут все?