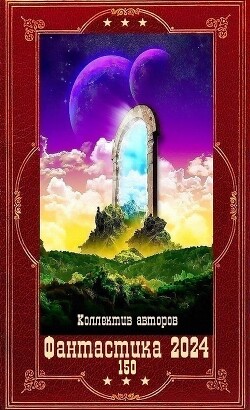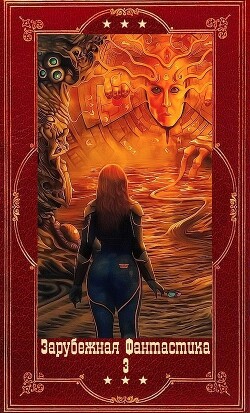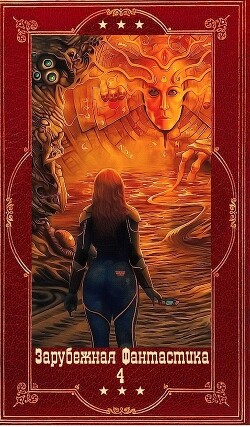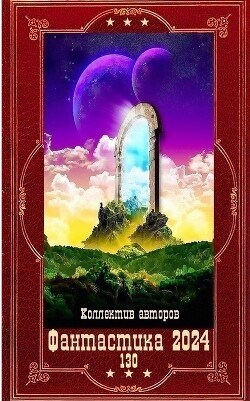Угол покоя - Стегнер Уоллес
– Откуда ты все знаешь про эту розу, если он никогда не говорил о девочке?
– Ну, со мной‑то он говорил.
– Но не с бабушкой.
– Да.
– Почему?
К этому‑то моменту я и подводил полуосознанно.
– Потому что мой дедушка был не из тех, кто забывает, – сказал я. – Не из тех, кто забывает, и не из тех, кто прощает.
Под ее ногами скрипнул гравий. Голосом, к которому я чутко прислушивался – он был тихим и сдавленным, – она сказала:
– Похоже, он был жесткий человек.
– Ничего подобного – мягкий. Люди им пользовались. Бабушка всегда говорила, что он слишком доверчив. Он, в сущности, никогда многого от людей не ждал, поэтому не слишком расстраивался, если они оказывались прощелыгами, аферистами и мошенниками. Но кое‑кому он доверял всецело. Вот когда они его предавали, он обращался в камень. Пошли, покажу тебе огород.
Произнося слова в пространство прямо перед собой, я привел кресло в движение; проехав через беседку, завернул за угол дома. Торопливо, почти бегом, ее шаги нагнали меня и следовали сзади совсем близко.
Может быть, я, разъезжая под еще не опустившимся солнцем, слегка одурманил себе мозги. В них было мутно, и, помимо того, я испытывал злую потребность показать этой женщине каждый листок на каждом стебельке фасоли, каждую гроздь зеленых или спелых помидоров, каждый початок кукурузы. Покажи мне тут все, сказала она. Отлично, все – значит все. Я заводил ее во все углы, я потерял представление о времени, и, когда, сам изнуренный, я вернулся с ней к дому и въехал по пандусу на веранду, мне показалось, что уже довольно поздно и сумрачно, и я позвал Аду, думая, что она на кухне. Никакого ответа. Я позвал еще раз. В гулком помещении мой голос прогудел так, будто я крикнул внутрь виолончели. Дожидаясь отклика, я осознал, что сетчатая дверь веранды не захлопнулась позади меня. Эллен, должно быть, все еще стоит в проеме, наполовину внутри, наполовину снаружи, и придерживает дверь рукой или пяткой. Неохотно, скорей чтобы нарушить чуткое безмолвие дома, чем давая ей понять, что приглашаю ее войти, я двинулся вперед. И тут же услышал, как щелкнула сетчатая дверь. Мы с Эллен были в доме совсем одни.
– Можно мне посмотреть дом? – спросила она. – Хочется увидеть, где ты живешь и работаешь.
Все еще не поворачиваясь к ней, глядя вглубь сумрачного дома, – у кого достает храбрости оглянуться, какой ребенок, идущий под темными деревьями, отваживается на что‑либо, кроме как смотреть вперед и больше никуда, делать шаг за шагом и изо всех сил удерживаться от панического бегства? – я сказал:
– Я живу и работаю наверху. Внизу мы пользуемся только кухней и, изредка, библиотекой.
– Так отведи меня наверх.
Она была неумолима. Стояла за мной и требовала, чтобы я позволил ей вклиниться обратно в мою жизнь. Мысль, что она поднимется наверх, в мои личные помещения, наполнила меня страхом. Я вслушивался. Еще раз позвал Аду, и дом проглотил это одинокое маленькое живое слово, как большая рыбина глотает мелкую рыбешку; я слышал или чувствовал, как оно трепещет, проглоченное. От жуткой мысли, что они все ушли, бросили меня, отдали этой женщине, у меня потемнело в глазах. Мне нужно было на нее взглянуть, я хотел знать, с каким лицом она стоит сзади, неотступная, как тень, но я не смел повернуть кресло. И сказал:
– Ты внизу для начала посмотри. Тут есть на что поглядеть.
После чего преодолел порог с пандусом и въехал в коридор.
Мы то ли катились, то ли плыли по комнатам, и, заворачивая в двери, я пару раз бросал на нее взгляды – она не отставала, серьезная, бледная, слегка нахмуренная. В одних чулках, неся туфли в руке, следовала за мной совершенно беззвучно. Из-за такой бесцеремонности – словно здесь ее законное место – я рассвирепел с новой силой. Держа для нее открытой дверь кладовки, я увидел, как она прошмыгнула внутрь, бесплотная, как некая Блаженная дева [168], несомая неким ветром; и ничего тут не сделаешь, ничем ее не прогонишь – только двигаться самому, чтобы она оставалась за моей спиной.
Она тянулась позади меня вдоль голых стен, обшитых темной от возраста секвойей, мимо голых каминов из природного камня, под высокими потолками с балками, сквозь дверные проемы, где по дощатым полам пролегли длинные тусклые полосы света. Любая обычная ходьба по этим комнатам звучала гулко, но я на своей резине и она в чулках перемещались по ним беззвучно, как паук ткет паутину, как ложится пыль. В библиотеке бледный прямоугольник, где раньше висел бабушкин портрет, посмотрел на нас со стены. Книги на полках казались мертвыми.
В спертом воздухе ее безмолвное неизбывное присутствие чем дальше, тем сильней на меня давило, и к тому времени, как мы вернулись в передний коридор, я весь был в поту, ладони прилипли к подлокотникам; поворачивая к ней кресло перед лифтом, я чувствовал себя загнанным в угол зверем.
– Ну, – сказал я, – вот и все. – Я смотрел на нее во все глаза, изо всех сил стараясь быть Горгоной, но ощущая себя крысой в углу. – Вот где я живу. Со всеми мыслимыми удобствами, как ты видишь. Мне очень хорошо помогают. А теперь у меня, извини, есть кое‑какие дела.
Но она не отправилась восвояси, как отпущенная после занятий студентка. Стояла передо мной с каким‑то вопросом в глазах и слабой улыбкой на губах, и мне слышно было, как мои смехотворные слова затихают в коридоре. Ниоткуда в доме не доносилось ни звука – ни сковородок, ни тарелок, ни текущей воды из кухни, ни пишущей машинки или шагов наверху. Пока мы осматривали территорию, Эд, должно быть, вернулся и выключил дождеватель. Я провел ладонью по липкому лицу.
– Ада… – огласил я тишь. – Шелли…
Жалкий скулеж, тем более жалкий из‑за того, что мой взгляд Горгоны на нее не действовал. Он раскалывался о ее взгляд, который, насколько я мог видеть, был всего лишь мягким, печальным, задумчивым. Я не мог говорить мимо или в обход нее, я мог только говорить с ней.
– До свидания, – сказал я. – Не буду лгать, твой визит не доставил мне удовольствия, но я не желаю тебе зла. Ступай с Богом.
Да, я правда это произнес. Vaya con Dios, mi alma, vaya con Dios, mi amor. [169]С Богом? С моим проклятием, с плевком моим на твоем лице и на платье, вот что я, конечно, хотел сказать. В смятении закопошился, заехал в лифт задом, в конце концов зафиксировал в нем кресло и щелкнул переключателем.
К моему ужасу, она поплыла рядом, как наполненная гелием: встала в лифте в одних чулках у зафиксированного колеса кресла. Впервые накатил страх, что я не избавлюсь от нее вовсе, – что ее клюв не перестанет терзать мое сердце, что ее фигура не перестанет заслонять мою дверь. Беспомощный, сидя задом наперед, не имея возможности ни опередить ее, ни отстать, не способный даже повернуть голову и посмотреть на дьяволицу, я медленно перемещался наверх.
Но когда мы приехали и я увидел, что цел, не тронут, когда сумел высвободиться из лифта и вкатиться в широкий коридор, страх, вогнавший меня в пот, отступил. Я смог на нее взглянуть, и вид у нее был безвредный, даже смиренный. Я оживился; мне не терпелось показать ей, как я устроился, я хотел, чтобы она увидела приватную сердцевину моей независимой жизни. Катясь к открытой двери кабинета, я вел ладонью по шелковистым стенным панелям из секвойи. Я хотел, чтобы она оценила красоту натертого дощатого пола, таких полов нигде не увидишь, кроме как в Японии. Один из первых домов Мэйбека [170] – достопримечательность. Жалко, если его когда‑нибудь снесут. Надо будет, и я об этом позабочусь, передать его Национальному тресту [171].
Я остановился и пропустил ее в кабинет. Она вошла с охотой, и я подумал, что, может быть, просто вообразил себе это неумолимое преследование по всему саду и первому этажу. В кабинете оглядела мой письменный стол, картины на стенах, письма в рамочках, скоросшиватели, папки с еще не разобранными письмами, сосновые кроны и вечернее небо в прямоугольнике слухового окна. Довольно долго простояла перед портретом Сюзан Уорд.