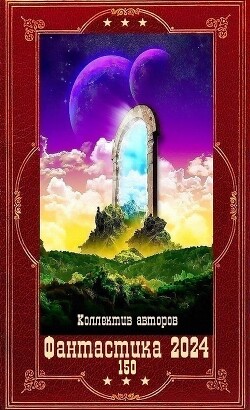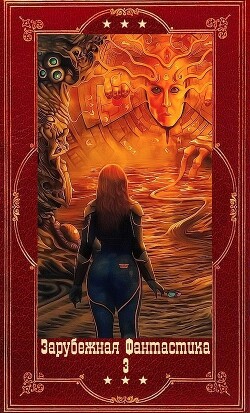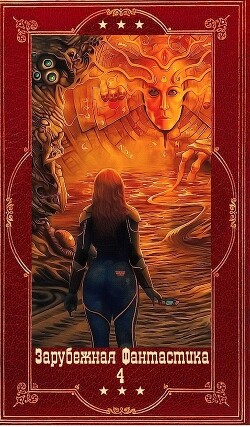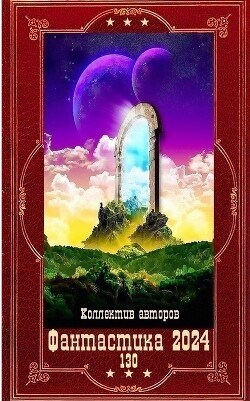Угол покоя - Стегнер Уоллес
Почему?
Всю жизнь она говорила о докторе Райнлендере с благодарностью: тем летом и два последующие лета он брал Олли к себе в семью, возил его на Мэн-Айленд, выхлопотал ему стипендию, чтобы он доучился в Школе святого Павла, а потом добыл ему стипендию в Массачусетском технологическом. Да, веские причины для благодарности. Но сопоставьте доброту доктора Райнлендера с тем обстоятельством, что мой отец не возвращался домой десять лет. До окончания школы проводил все летние каникулы у Райнлендеров; когда поступил в Массачусетский, нанимался летом на временную работу. Одна из этих работ привела его в составе изыскательской группы в горы Айдахо, где трудился в прошлом его отец. К тому времени семья уже поселилась тут, в Грасс-Вэлли, но сын не проделал остаток пути на запад, чтобы ее повидать. С отцом он раз или два в год встречался в Нью-Йорке. С матерью – никогда. Окончив Массачусетский, нашел работу в Корее – отплыл туда из Сиэтла, не побывав дома, – и оставался в Корее, пока его не выгнала оттуда Русско-японская война. Тогда, и только тогда, он принял предложение дедушки, ставшего генеральным управляющим на руднике “Зодиак”, занять там должность администратора.
Десять лет. Как мне их истолковать? Особенно если помнить о молчаливости на протяжении всей его жизни, о молчаливости, больше походившей на болезнь, чем просто на черту характера. Особенно если помнить, как бабушка тушевалась перед ним, как она боялась его безмолвия. Особенно если знать, как лихорадочно она летом 1890 года спешила от него избавиться. Мне приходится заключить, что он что‑то знал – или подозревал – или видел – или считал ее виновницей катастроф, которые за три-четыре дня разрушили его мир. Я прихожу к мысли, что ей, охваченной горестной тоской и отвращением к себе, – он не мог винить ее суровей, чем она винила себя, – нестерпимо было смотреть сыну в глаза. И, хотя я мог бы, вероятно, сочинить эпизод, подтверждающий мое подозрение, я, пожалуй, не буду. Удовольствуюсь фактом, что с того времени он питал почти неизлечимую антипатию к матери; она прочла его мысли еще до отъезда из Айдахо и не в силах была вынести того, что видела.
Вот они опять готовятся сесть на трансконтинентальный поезд, на сей раз не просто потерпев поражение, а испытав полный разгром, – угрюмый бледный подросток, испуганная девочка десяти лет без малого и их мать, натянутая как струна, поворачивающаяся с пустой белой улыбкой к людям на перроне, которые подходили или окликали ее: Бойсе был городом, где встречали проходящие поезда. Но все рассыпалось на куски, когда страшно разрыдалась Нелли, когда она схватила детей, стиснула их и окропила слезами, когда она приникла к Сюзан с плачем, который шатал и сотрясал их обеих. Они все были в слезах. С глазами, откуда текло, Нелли отступила назад, попыталась что‑то сказать, задохнулась, смотрела на всех жалостно несколько секунд, ее слабый подбородок англичанки трясся, а потом закрыла рот платком, опустила голову и убежала. Сюзан повела детей в вагон, участливый проводник нашел их места, внес вещи и оставил их одних, они вжались в плюш высоких пульмановских сидений, отчасти укрывавший от любопытных глаз. Все равно что оказаться в комнате, полной людей, когда у тебя на лице написана беда. Они слышали хруст газет. Мужчина через проход почему‑то выбрал эту минуту, чтобы собирать мусор и апельсиновые корки с сиденья и с пола вокруг себя. Они отвернулись от его бесцеремонности. Сюзан положила головку Бетси себе на колени и прислонилась в углу, гладя ее подрагивающую спину. Олли прижался лбом к стеклу и слепо, как сова днем, уставился наружу. Наконец поезд тронулся.
Пять дней такой езды – день в Айдахо, ночь в Вайоминге, день в Вайоминге и Небраске, ночь в Небраске, целое утро ожидания на перроне в Омахе. Вторая половина дня в Айове, ночь в прериях, где не видно ни зги, еще одно утро ожидания – теперь на вокзале в Чикаго. Вторая половина дня в Иллинойсе и Индиане, затем они зарылись в густую жаркую ночь. Окна были открыты, вагон был усыпан газетами и объедками, сами они были чумазые от гари, на ладонях после плюша оставалась чернота, постели, которые вечером застилались крахмальные и белые, к утру становились мятыми, влажными, перекрученными гнездами.
И ни малейшей перемены в подростке за всю дорогу. Днем он сидел, притиснув лоб к окну, безучастный и вялый. Он избегал ее взгляда – и за это она была наполовину благодарна, ибо, когда случайно встречалась с его отраженными в стекле глазами, это была такая боль, словно ее хлестнули колючками.
Она делала то, что считала себя обязанной делать, – или что могла. Обращала внимание детей на то и это, мимо чего проезжали, доставала блокнот и побуждала Бетси рисовать, спрашивала их, когда по вагону проходил служитель, хотят ли они сладостей, журналов, апельсинов. Бетси изредка хотела, Олли никогда. Когда наставало время обеда или ужина, он послушно ел, потом возвращался, проваливался в свой угол и припадал лбом к стеклу. Все пять дней просидел напротив нее, и она не могла встретиться с ним взглядами без горя и паники; вечером забирался к себе на верхнюю полку, пожелав односложно спокойной ночи, и лежал там, безмолвный и недоступный, все темные часы вагонной качки, а тем временем она внизу прижимала к себе спящую Бетси, ее пару раз приходилось будить, потому что она кричала в кошмарном сне, и успокаивать, хотя у самой было мокрое и измученное лицо.
Подросток был бессловесен, он вновь был полной копией отца, и она чувствовала, что в нем нет ни капли прощения. Ее собственное оцепенелое горе, ее несдвигаемую вину можно было держать в узде в течение дня, когда она могла сосредоточивать взгляд на чем‑то снаружи, извлекать слепые слова из книг и журналов, хвататься, будто за плоты, за бытовые подробности питания и мытья. Но по ночам лежала, слушала дыхание дочери подле себя, и думала, и вспоминала, и плакала, и кривила лицо, и зарывалась им в подушку, и обхватывала его руками, чтобы защититься от того, что наваливалось снаружи. А утром, когда выходила из‑за зеленых занавесок, для Олли уже была подставлена лесенка, и он возвращался из туалета с огромными выгоревшими глазами, где она читала все – все, что сама передумала за ночь.
Поэтому, я думаю, она уже во время поездки решила, что просто не выживет, если не расстанется с ним, что это необходимо и ему, и ей. Она была из тех, кто выживает – как иначе дожила бы до девяноста одного года? – и к тому времени, как они доехали до Покипси, у нее было почти три недели, чтобы прийти к приятию, чтобы смириться с абсолютной бедой. Да, да, она будет нести то, что должна нести, – ее жизнь разрушена, но не окончена. Будучи собой, она знала, что ее жизнь не будет окончена, пока она тем или иным образом не искупит свою слабость, вину, грех – чем бы ни было то, за что она себя кляла.
Доставив моего отца к доктору Райнлендеру, она, судя по всему, вернулась в Милтон, где ее ангельски добрая сестра Бесси опекала Бетси, свою тезку. Сюзан была намерена поехать в Нью-Йорк, снять квартиру, отдать Бетси в школу и с угрюмой непреклонностью – да, угрюмой, это верное слово – обратиться к делу, которое все эти годы пыталась совмещать с замужеством за пионером Запада.
В начале года она писала Огасте, что все отдала бы за возможность хоть десять минут посмотреть на русую голову своего мальчика среди других голов в школьной церкви, где звучат серьезные торжественные слова, напитывающие его мудростью. Такой возможности ей не представилось. В первое и последнее свое посещение Школы святого Павла она, расставаясь с сыном в кабинете директора, наклонилась к нему, обняла его неподатливое жесткое тело и, плача, наказала ему прилежно учиться, любить ее, писать ей. Он посмотрел на нее огромными выгоревшими глазами, нехотя сказал два-три слова и проводил ее взглядом.
Она была намерена поехать в Нью-Йорк, снять квартиру и взяться за писание и рисование – это явствует из некоторых ее позднейших писем. Но она так не поступила. Отправилась – забрала бедную маленькую потерянную Бетси с милтонской фермы и повезла было в эту новую скудную жизнь, – но что‑то произошло в ее уме и чувствах. Отшатнулась, передумала делать этот прыжок. Ее ждали Огаста и Томас; вся та жизнь, от которой она отказалась, выйдя замуж за Оливера Уорда, была вновь открыта ее устремлениям, и она еще не состарилась – была, если на то пошло, на пике воображения и мастерства, – но не смогла. Села на поезд, но не на тот, что направлялся в Нью-Йорк, а на другой, трансконтинентальный, который ехал на Запад. Шестого августа, назавтра, в десять утра, “поблизости от Чикаго”, второпях написала записку, помимо которой от ее корреспонденции за эти три месяца не сохранилось ничего.