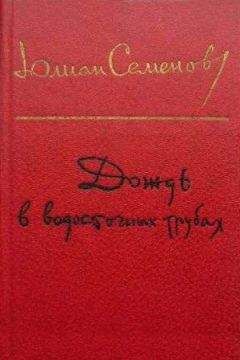Джером Сэлинджер - Собрание сочинений
— Хотите знать, почему Шарлотте наложили девять швов? — вдруг спросил я — мне показалось, у меня совершенно нормальный тон. — Мы были на Озере. Симор написал Шарлотте — пригласил ее к нам, и мать в конце концов ее отпустила. Ну и что случилось: однажды утром она присела прямо посреди нашей подъездной дорожки и стала гладить Тяпину кошку, и Симор кинул в нее камнем. Ему было двенадцать лет. И только-то. Он в нее кинул камнем потому, что она так красиво сидела с Тяпиной кошкой. Елки-палки, это все знали — я, Шарлотта, Тяпа, Уэйкер, Уолт, вся семья. — Я посмотрел на оловянную пепельницу на кофейном столике. — Шарлотта ему потом ни слова не сказала. Ни слова.
Я взглянул на гостя, вполне рассчитывая, что он станет спорить со мною, обзывать вруном. Я, конечно, вру. Шарлотта вообще не поняла, зачем Симор кинул в нее камнем. Но гость мой спорить не стал. Напротив. Он ободряюще мне ухмыльнулся, словно сочтет истиной в последней инстанции все, что бы я ни сказал дальше. Но я встал и вышел из комнаты. Помню, на пол — пути решил было вернуться и поднять два кубика льда, что лежали на полу, но задача показалась мне чересчур утомительной, и я вышел в коридор. Проходя мимо двери в кухню, я снял форменную рубашку — содрал с себя — и уронил на пол. В тот миг мне показалось, что здесь я всегда и оставлял верхнюю одежду.
В ванной я несколько минут постоял над корзиной для белья, рассуждая, стоит или не стоит мне вытаскивать дневник Симора и снова в него заглядывать. Не помню, какие доводы я приводил за или против, но в конечном итоге корзину я открыл и дневник достал. Снова уселся на край ванны и пролистал записи до самой последней:
Один из наших только что снова позвонил транспортникам. Если нижний предел облачности будет подниматься и дальше, мы, видимо, вылетим еще до утра. Оппенхайм говорит, чтобы губу не раскатывали. Я позвонил Мюриэл. Очень странно получилось. Она ответила и все время повторяла «алло». Голос мне отказал. Еще чуть-чуть, и она бы повесила трубку. Только бы мне удалось хоть немного успокоиться. Оппенхайм заваливается на боковую, пока нам не перезвонят наземные службы. Мне бы тоже надо, но я слишком взбудоражен. Звонил-то я, чтобы попросить ее — поклянчить в последний раз — просто уехать со мной и выйти за меня замуж наедине. Я слишком взбудоражен для людей. Я как будто рождаюсь. Священный день, священный. Связь была отвратительная, к тому же я по большей части вообще ничего не мог сказать. Какой ужас, если говоришь «я тебя люблю», а человек на другом конце провода в ответ кричит: «Что?» Весь день читал кусками Beданту. Партнеры в браке должны служить друг другу. Возвышать, поддерживать, учить, укреплять друг друга, но превыше прочего — служить. Растить детей достойно, с любовью и отрешенностью. Дитя в доме — гость, коего следует любить и уважать — и никогда не владеть им, ибо оно принадлежит Богу. Как чудесно, как здраво, как прекрасно трудно и, следовательно, истинно. Радость ответственности — впервые в жизни. Оппенхайм уже храпит. Мне тоже надо, но не могу. Кто-то должен посидеть со счастливым человеком.
Я прочел запись до конца лишь раз, потом закрыл дневник и отнес в спальню. Бросил в саквояж Симора под окном. Затем рухнул — более-менее прицельно — на ближайшую из двух кроватей. Заснул я — иначе, вероятно, отключился намертво, — еще не успев приземлиться, или же мне так показалось.
Когда я пробудился, где-то часа полтора спустя, голова раскалывалась, а во рту пересохло. В комнате почти совсем стемнело. Помню, что немало времени просидел на краю кровати. Затем, ведомый великой жаждой, встал и медленно подрейфовал к гостиной, надеясь, что в кувшине на кофейном столике еще осталось холодное и мокрое.
Последний гость, очевидно, вышел из квартиры сам. Лишь пустой стакан и окурок сигары в оловянной пепельнице подсказывали, что он вообще существовал. Я по-прежнему склонен думать, что окурок следовало отправить Симору — раз уж, как водится, на свадьбу принято дарить подарки. Просто окурок сигары — в славной шкатулочке. Может, еще вложить чистый лист бумаги — в порядке объяснения.
Симор. Вводный курс
Своим присутствием действующие лица всегда, к моему ужасу, убеждают меня: большая часть того, что я до сего времени о них написал, — ложно. Ложно потому, что пишу я о них со стойкой любовью (даже теперь, пока я это записываю, оно тоже становится ложным), но с переменным умением, и умение это не изображает действующих лиц ясно и точно, а скучно растворяется в любви, которая им никогда не будет насыщена и, стало быть, полагает, будто оберегает действующих лиц, не позволяя умению себя проявить.
Чтобы представить это в образах, предположим некую опечатку ускользающую от своего автора, опечатку, наделенную сознанием, — которая по сути вовсе, может быть, и не является таковой, но если охватить взглядом весь текст в целом, некой неизбежной чертой этого целого, — и вот, восстав против своего автора, она с ненавистью запрещала бы ему исправлять себя, но восклицала бы в абсурдном вызове: нет, ты меня не вычеркнешь, я останусь свидетелем против тебя — свидетелем того, что ты всего лишь ничтожный автор![292]
Временами, сказать вам правду, мне это представляется довольно скудными объедками, но в сорок лет я рассматриваю своего старого ненадежного друга широкого читателя как последнего сугубо современного наперсника, а ведь меня усердно предупреждали — задолго до того, как я разменял третий десяток, и предупреждал один из лично мне знакомых одновременно самых зажигательных и наименее по сути своей самонадеянных известных мастеров этого дела, — чтобы я старался оценивать радости подобных отношений твердо и трезво: в моем случае он видел опасность с самого начала. Вопрос же в том, как может писатель наблюдать за этими радостями, если понятия не имеет, каков его широкий читатель? Обратное, разумеется, тоже бывает сплошь и рядом, но когда это автора спрашивали, каким он видит своего читателя? К великому счастью, если продолжить тему и выступить тут с заявлением — а мне представляется, что заявление это не из тех, что переживут нескончаемое развитие темы, — довольно давно я обнаружил практически все, что мне потребно знать про своего широкого читателя, то есть, боюсь, — про вас. Есть опасение, что вы станете отрицать все вдоль и поперек, но вообще-то я не в том положении, чтобы верить вам на слово. Вы обожаете птиц. Совсем как тот человек в «Шхере Скуле»[293] Джона Букэна — этот рассказ мне как-то на очень плохо надзираемых самостоятельных занятиях подсунул читать Арнолд Л. Шугармэн-мл., - вы птицами и занялись-то потому, что они воспламенили ваше воображение; они завораживали вас, ибо «из всех божьих тварей казались наиболее близкими к чистому духу, эти маленькие создания, у которых нормальная температура тела — 125º».[294] Вероятно, как того персонажа у Джона Букэна, вас будоражило множество мыслей по этому поводу; вы, я уверен, напоминали себе, что: «Королек, чей желудок не больше фасолины, перелетает Северное море! Краснозобик, который размножается так далеко на севере, что лишь человека три видели его гнездо, в отпуск летает в Тасманию!» Было бы, конечно, слишком роскошно надеяться, что мой собственный широкий читатель вдруг окажется одним из этих троих, кто видел гнездо краснозобика, но у меня, по крайней мере, такое ощущение, будто его — вас — я знаю неплохо и потому способен догадаться, какой благонамеренный жест от меня нынче с радостью воспримут. В этом духе entre-nous,[295] стало быть, мой старый-добрый наперсник, пока мы не присоединились к остальным, наприземлявшимся повсюду, включая, несомненно, стареющих лихачей на пришпоренных тачках, готовых гнать с нами хоть до луны, Бродяг Дхармы, изготовителей сигаретных фильтров для настоящих мыслителей, Битых, Неряшливых и Вздорных, избранных адептов, всех возвышенных спецов, которым так хорошо известно, что нам надо, а чего не надо делать с нашими бедными маленькими половыми органами, всех бородатых, гордых, необразованных молокососов, и неумелых гитаристов, и дзэноубивцев, и корпоративно — вросших стиляг-эстетов, которые со своего основательно непросвещенного высока взирают на эту великолепную планету, где (не затыкайте мне, пожалуйста, рот) останавливались передохнуть Килрой,[296] Христос и Шекспир, — пока мы не присоединились к этим остальным, я с глазу на глаз вам говорю, старый друг (на самом деле, боюсь, — реку вам): прошу вас принять от меня этот непритязательный букетик ранних скобок: (((()))). Полагаю, в самом нефлоральном смысле, я и впрямь хотел бы, чтоб вы его приняли, в первую очередь — как кривоногие — ноги хомутом — приметы моего состояния ума и тела при написании сего. Говоря профессионально, а это единственная манера выступлений, которая мне нравится (и чтобы еще меньше втереться к вам в доверие, упомяну, что говорю я на девяти языках — беспрестанно, причем четыре из них уже лишены всяких признаков жизни), — говоря, повторяю, профессионально, я до экстаза счастлив. Как никогда прежде. Ой, ну, может, разок, когда мне было четырнадцать и я написал рассказ, где все персонажи несли на себе гейдельбергские дуэльные шрамы — герой, негодяй, героиня, ее старая нянюшка, все лошади и собаки. Тогда я был в разумных пределах счастлив, можно сказать, но не экстатически, не вот как сейчас. К делу же: мне выпало знать, быть может — лучше прочих, что находиться рядом с экстатически счастливым пишущим человеком совершенно иссушает. Конечно, поэты в таком состоянии несравненно «труднее», но даже у прозаика, эдаким манером обуянного, вообще-то не бывает выбора, как себя вести в приличном обществе; божественное оно там или нет, буйство есть буйство. И хотя мне сдается, что экстатически счастливый прозаик может сделать много хорошего на печатной странице — лучшего, я честно надеюсь, — также правда, равно как и, я подозреваю, бесконечно самоочевиднее то, что он не может быть умерен, сдержан и краток; почти все его короткие абзацы куда-то деваются. Он не может отстраняться — либо это случается с ним крайне редко и подозрительно, при отливе. В кильватере же почти всякого счастья, столь крупного и всепоглощающего, он, по необходимости, лишается гораздо меньшего, но для писателя всегда довольно изысканного наслаждения: на странице выглядеть так, будто он невозмутимо сидит на заборе. Хуже всего, мне кажется, он уже больше не в том положении, чтобы удовлетворять самую насущную потребность читателя: а именно, видеть, как автор, к чертовой матери, рассказывает историю. Отсюда отчасти и зловещее подношенье скобок несколькими фразами ранее. Я сознаю, что довольно много совершенно разумных людей терпеть не могут замечания в скобках, когда им якобы рассказывают историю. (Нам известия об этом приносит почта — преимущественно, согласен, от сочинителей курсовых работ с очень естественными позывами самоутвердиться, написав нам письмо под столом, когда их выпускают из студгородка. Но мы читаем и обычно верим: хорошие, плохие или безразличные, любые цепочки английских слов удерживают наше внимание, как если б исходили от самого Просперо.) Я здесь для того, чтобы предупредить: отныне и впредь отступления мои будут оголтелы (я даже не уверен, что ниже не появится сноски-другой), но я полон решимости время от времени лично вскакивать на спину читателю, если увижу в стороне от протоптанного сюжета нечто возбуждающее или интересное, достойное того, чтобы к нему скакать. Скорость здесь, господи храни американскую мою шкуру, ничего для меня не значит. Есть, однако, читатели, кои серьезно требуют лишь самых сдержанных, самых классических и, вероятно, самых искусных методов удержания их внимания, и я предлагаю им — искренне, насколько искренне такое может предлагать автор, — уйти сейчас же, пока, насколько мне представляется, уход еще возможен и легок. Быть может, я и дальше буду им указывать наличные выходы, но не уверен, что мне снова удастся вложить в это душу.