Юлиан Семенов - Вожак
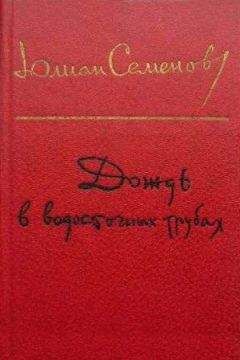
Обзор книги Юлиан Семенов - Вожак
Семенов Юлиан Семенович
Вожак
«Вот он, — подумал Степанов. — Наверняка это он. И в прошлом, и в позапрошлом году он проводил свою стаю уже под вечер, когда основной пролет кончался и только изредка в серо-прозрачном арктическом небе со свистом проносились глупые, но быстрые шилохвости.
Все стаи пролетали низко над тундрой, а он вел гусей, построенных танковым, парадным ромбом, высоко над буграми, которые ограждают море; в недолгих полярных сумерках эти бугры всегда кажутся мне спинами громадных, неповоротливых зверей, упавших перед ледяной водой на передние лапы после тяжелого перехода по мокрому, глубокому, крупитчатому голубому снегу. Если я увижу в бинокль кольцо на его правой лапе, значит, это он. Ей-богу, он. И крылья у него разные. Один подкрылок черный, а другой белый, словно поседевший. Хорошо, что он летит по солнцу, — мне видны и кольцо на правой лапе, и седина на подкрылке. До чего хитер, сукин сын, а! Не поворачивает на «профиля»[1], как остальные, а, наоборот, поднимает своих гусей высоко в небо, отваливая еще ближе к морю, к непроходимым глыбам серого льда, выброшенного на берег».
«Все-таки до чего он нескладен, — подумал вожак гусиного косяка. — Ему кажется, что я не вижу его. Он не понимает, что солнце отражается в стеклах бинокля. Этот острый, быстрый голубой лучик сигнализирует мне о тревоге. Как красив этот отраженный луч солнца… А этот охотник? Он выглядит смешно и жалко, как можно жить без крыльев?
Сверху он особенно беззащитен: маленький, придавленный небом, толстый… Он и бегать-то не может толком. Впрочем, как можно бегать на таких длинных палках, да еще если нет красных упругих перепонок между пальцами, а ногти, вместо того чтобы радоваться их остроте и силе, обстрижены? Хотя тот парень, который ломал мне крылья, вытаскивая из сетей возле Леесдама, обкусывал свои ногти зубами.
Сначала я не обратил внимания на это — какое там, не до жиру, быть бы живу! Я заметил это, когда он надел мне кольцо на лапу и бросил меня в небо, а я упал, потому что он повредил мне крыло. Я заметил, как тот парень быстро и опасливо кусал ногти, гоняя меня по лугу.
Я проиграл ему, я ведь знал про охотников лишь понаслышке — от вожака нашей стаи Красивого и от его помощника, которого звали Шептуном, потому что он обычно говорил очень тихим голосом. Он привык молчать, когда летал в разведку — посмотреть, где можно устроить нас на ночлег, а в разведку надо летать очень тихо, ластясь к земле в серых сумерках, присматриваясь и к огням, и к чрезмерной темноте.
Люди обычно курят в кустах, дожидаясь нас, или же, наиболее опытные и выдержанные — истинные охотники, в ямах, замаскированных валежником или камышом. И то, и другое заметно нам в равной мере: и огонек сигареты, и черное пятно на темно-коричневой земле. Я проиграл тому парню в Леесдаме, потому что слишком надеялся на свои силы и относился к этим бескрылым свысока. Я стал относиться к ним иначе, когда понял, что такое самолет. Я ведь не понимал сначала, что самолет — это творение их рук, я наивно полагал, что самолет — это прирученная ими птица…
А тогда ведь мне было всего четыре месяца, и до этого я жил на Земле Франца Иосифа, и по ночам мама рассказывала мне удивительные истории про Африку и про Черное море, куда мы полетим осенью, и гладила мою голову, и чесала спину своим красивым нежным крылом, а я заходился от смеха из-за щекотки, а наш вожак Красивый даже не выговаривал маме — вообще-то нам запрещено громко смеяться и болтать на летних гнездовьях, чтобы не привлекать постороннего внимания. Он не выговаривал маме не потому, что все птенцы, тем не менее, кричат и смеются, несмотря на запрет, а, как утверждал наш сосед по гнездовью Тельняшка (у него были черно-белые полосы на груди, и поэтому ему дали такое прозвище), потому, что Красивый давно влюблен в маму, еще со времени весеннего перелета, когда погиб мой отец.
Я слышал, как Красивый однажды утешал маму. Он говорил ей, что папа сам виноват в гибели, что людей надо уважать: нельзя понять того, кого не уважаешь… «А твой муж, — продолжал Красивый, — всегда отличался высокомерием и зазнайством. Прости меня, быть может, я говорю слишком жестоко, но мне нельзя говорить иначе — птицы перестанут верить, если я буду подыскивать выражения, вместо того чтобы обнажать существо вопроса. Ты улыбаешься? Я говорю языком служебных совещаний? Что делать! Люди берут у нас все связанное с полетом, мы же пользуемся их манерой общаться друг с другом в быту. Твой муж считал, что он умнее охотников, быстрее их и сильнее. И люди, и птицы гибнут от зазнайства — это истина. И твой муж погиб». Мама сказала вожаку (она думала, что я спал, а я не спал и все слышал): «Но ведь ты хотел его гибели».
Красивый долго молчал, а потом ответил: «Может быть. Но этого хотел я, лично я, Красивый. Этого не хотел вожак, которого называют Красивым. Разве ты не помнишь, как я собирал всех на инструктаж перед последним перелетом? Помнишь? А твой муж делал вид, что спит, потому что он слышал мой инструктаж уже пять раз. Верно.
Раньше он слушал меня — и был жив. А потом его прозвали Стремительным, и он решил, что может заменить меня… Разве нет? Я не хотел его гибели, Маленькая, потому что я вожак и я отвечаю за всех вас в стае. Разве я для кого-нибудь среди наших Красивый? Так, старая кличка — всего лишь. Перья на левом крыле повыбиты, три дробины в кишечнике, который болит, когда меняется погода. Старая развалина, а не Красивый». — «Не говори глупостей, — сказала тогда мама, — ты же знаешь, что это неправда».
Да… Интересная все же штука — жизнь. И попался я тогда парню с обгрызенными ногтями потому, что был самонадеянным дурачком. Наследственность, что ни говори. Когда парень выгнал меня на шоссе, по которому неслись громадные машины, я так испугался, что взмахнул крыльями, чтобы улететь из этого грохочущего ада, но страшная боль ударила меня в правое крыло, и я ослеп от этой боли, и тот парень с обгрызенными ногтями навалился на меня и не дал мне попасть под машину. Он еще гладил меня потом и говорил всякие слова, чтобы я не боялся, что он меня отпустит.
Впрочем, грех мне сердиться на него — ведь он спас мне тогда жизнь. Хотя лучше бы не было той жизни. В клетке в зоосаде, под взорами тысяч людей, которые пялятся на тебя и говорят своими ужасными, совершенно не похожими на наш голосами, напрочь лишенными юмора: «Гусь, гусь, смотри, гусь с разными крыльями, как смешно!» Это им смешно, а мне было больно — поэтому правое крыло и сделалось белым».
«Куда же он летит? — подумал Степанов. — Неужели он хочет посадить стаю на море? Туда с утра ходил Ненахов, а он браконьерит… Не поставил ли он там сети для гусей? Сволочь, если он там поставил сети, я сверну ему шею. Как глупо, этот гусь три года обманывал меня, а попадется в сети Ненахова… Впрочем, я не прав. Гусь не обманывал меня. Он меня побеждал. Обман — это совсем другое. Это всегда подло и трусливо. А он побеждал меня честно. Он вел свой косяк высоко, прямо надо мной, и не снижался, когда видел «профиля», и не прельщался ягелем на долине, а искал такие места, куда не подойти человеку, волку или песцу. Причем он не вел косяк в поднебесье: там летают, видно, только самые трусливые. Он соблюдал точную дистанцию безопасности — девяносто метров.
Он не шарахался и не взмывал пугливо вверх, когда по нему палили из своих слабеньких курковых тулок «чечако», — он точно знал, что это вовсе не опасно, и достойно и гордо продолжал свой полет на заданной высоте, как реактивный корабль, и только сердито кричал на молодых, если те трусливо рассыпали строй и норовили отвернуть в сторону. Точно, он повел гусей к морю. Покричать ему, что ли?» — вдруг усмехнулся Степанов.
— Эй, разнокрылый, куда ты?!
«Это он мне, — понял Вожак. — Они всегда поднимаются из своих скрадков, когда мы пролетим: они думают, что мы не умеем оглядываться… Они гордятся тем, что научились делать автомобили и самолеты, но ведь самолеты они скопировали с нас и до сих пор не могут понять, как мы ориентируемся без звезд, солнца и компаса. Где уж им это понять!»
Молодые гуси уже пятый раз жалобно просились на ночлег. Вожак посмотрел на юных птиц. Хохотушка еле тащилась в хвосте стаи, и Длинный совсем сдал. Сизый, — попросил Вожак помощника, — посмотри-ка, пожалуйста, эту прибрежную полосу. По-моему, тут мы славно переночуем, а?
Сизый, покашляв, сказал:
— Га-га…
Он страдал дефектом речи с детства — не выговаривал букву «д».
— Может быть, ты не согласен? — спросил Вожак. — Ты спорь со мной. Я уже два года прошу тебя об этом, а ты соглашаешься со мной во всем — разве так можно?
— Если я согласен с тобой в главном — зачем же спорить?
Сизый отвалил в сторону — Вожак всегда любовался тем, как он красиво и быстро умел падать в сторону, не нарушая строй косяка. Но Вожак, любуясь Сизым, тем не менее всегда ловил себя на мысли, что где-то в самой глубине души он относится к нему недоверчиво и презрительно. Он не мог забыть, как осенью, когда крыло у него зажило, и он сбежал из зоосада в Лондоне, и, счастливый, носился в небе, а потом, обессилев, опустился на море и спал часов десять подряд, не в силах двигаться, — так он был опьянен свободой, а потом увидел косяк гусей и, закричав им что-то сумасшедше-веселое, ринулся вверх и подвалил к птицам, — он не мог забыть, как от их вожака отделился помощник, чем-то похожий на Сизого, и, приблизившись, спросил:



