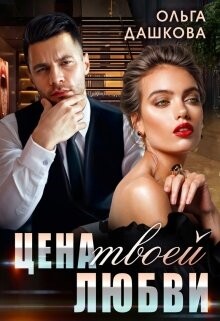Хорея - Кочан Марина
Мама говорит это всегда, слово в слово. Я рада, что мы с сестрой не похожи. Олеся обладает невероятной усидчивостью, она может три часа собирать чернику в пятилитровое ведро. Мне же становится не по себе при мысли, что ждать засоленных грибов нужно так долго.
Через пару дней прямо на дороге я нахожу еще пару волнушек. Я приношу их домой и докладываю в ту же миску. На следующее утро на кухне появляется кислый запах. Я открываю тарелку и вижу белую пену поверх шляпок.
— Ну, разумеется. Докладывать в уже засоленное было нельзя, — вздыхает мама. — Нужно было положить их отдельно.
Мы еще немного говорим о грибах. Мама сообщает, что рыжики — ее любимые. Они самые хрустящие. Еще жареные сыроежки. Они хороши с картошкой и сметаной.
— Кстати, я взяла билеты, — говорю я. — Прилетим к тебе через неделю.
— Да ты что! — восклицает мама. — Ну наконец-то.
Глава 4
Самолет приземлился вовремя, но в зале прилета нас никто не встретил. Чтобы не увязнуть в тревожных мыслях, я взяла жидкий черный кофе в кафе «Ванильное небо» на первом этаже аэропорта и ржаную калитку с брусникой. Сава сидел в коляске и с интересом следил за людским потоком. Я погладила его по спине.
— Скоро мы будем дома, — сказала я ему.
Сава издалека начал улыбаться маме, признав ее среди всех других людей раньше, чем она подошла. В толпе она всегда выделялась, привлекая внимание своим ярким видом, одеждой, макияжем. Когда она взяла Саву на руки и прижала к себе, он засмеялся, словно мама рассказала ему самую смешную на свете шутку.
— Все дети очень любят меня, — с гордостью сказала она. — Как и кошки, и собаки. В детстве меня даже назвали «кань бабушкой». «Кань» — это кошка на коми, — уточнила она.
Обычно у этой истории было продолжение: про мамину тетю в Геленджике, ненавидевшую все живое и стрелявшую по дворовым кошкам из ружья. Про то, как мама спасала этих кошек, кормила их и прятала.
Сестра отвезла нас на машине домой.
— Увидимся завтра? — спросила она на пороге, уходя.
— Не знаю, — сказала я тише, чем обычно. — Посмотрим, какие у мамы планы.
Мамины планы и настроение — мой главный камертон.
Мама постелила нам на диване. На простыни не было ни единой морщинки. В свои семьдесят лет мама все еще гладила белье и складывала аккуратными стопками «для гостей». На стуле меня ждала розовая ночнушка с котенком, я носила ее, когда была подростком. И сейчас мама берегла ее для каждого приезда.
— Куриные биточки приготовила, праздничный ужин. Вино красное, я помню, ты же полусухое любишь?
— Да, мам. Но мы так устали с дороги, давай поужинаем позже, когда Саву уложу, — сказала я.
— Да, понимаю, тогда тоже пойду прилягу.
В ее голосе я уловила тоску, или мне только показалось. Я всегда слежу за маминой интонацией. Расстроена или нет. Обижена или нет. Можно ли говорить, или лучше промолчать.
Я закрыла дверь в комнате, плотно задернула шторы. Это были наши бежевые, прошитые блестящими нитями шторы с рисунком в виде травянистых растений. Раньше они висели в гостиной.
В полутемной комнате, лежа на диване рядом с Савой, вдыхая такой родной запах детской макушки и слушая мерное дыхание, я рассматривала вещи: здесь смешалось то, что оставила сестра, с тем, что перевезла мама.
Перед рождением двойняшек Олеся поменялась с мамой квартирой. Она уговорила маму на это, потому что другого выхода у нее не оставалось. Ей нужно было где-то разместить четверых детей. Мама уже несколько лет жила в четырехкомнатной квартире одна. Эту квартиру она получила спустя год после моего рождения, отстояв долгую очередь. Раньше в нашем доме жили только ученые. Все знали друг друга. «Этот с химического», — говорила мама, когда из лифта выходил наш сосед с шестого этажа. А рядом с ним, в трешке, с геологического. Родителей тоже все знали по именам. Всякий раз, когда я представляю себе этот обмен, я снова восхищаюсь силой и настойчивостью сестры. На девятом месяце беременности она каждый день разгребала скопившийся за тридцать лет хлам, перевозила маме вещи. Что-то выбрасывала, но уточняла про каждую:
— Мама, а это оставить?
— Ой, не знаю, мне ведь ничего не нужно, — всегда отвечала та торопливо. — Я уже ничего не хочу. Свою миссию я уже выполнила.
В квартиру сестры мама и правда взяла не так уж много вещей. Она выбрала себе самую маленькую комнату — выгороженный кусок гостиной, маленький закуток — словно хотела спрятаться. Она обставила свою спальню как прежде: кровать, стол, тумбочка и комод. В этой комнате можно было не пылесосить — там почти не было свободной поверхности пола. Вещи обнимали маму со всех сторон, успокаивали. В изголовье кровати она повесила бумажную икону, приколола булавкой к обоям. «Буду молиться», — говорила она каждый раз, когда у меня что-то случалось. Я думала, что это фигура речи, а она и правда каждый раз молилась по много раз, про себя.
Я лежала на диване в бывшей детской моих племянниц. Сава уснул, и я слушала, как спокойно он дышит. Из комнаты мамы доносился монотонный голос телевизора.
Было еще только восемь вечера, но я вдруг почувствовала, как сильно хочу остаться в кровати.
«Сава уснул, я посплю тоже, увидимся утром», — написала я маме в ватсап.
Я знала, что мама уснет только под утро. Это продолжалось много лет. У нее были проблемы со сном и до того, как папа стал бродить по коридорам ночью. Она всегда принимала снотворное, феназепам. Но в конце концов и он перестал помогать. Теперь она чаще всего пила что-то крепкое. На завтрак, обед и особенно ночью.
— Возможно, алкоголь и есть причина твоей бессонницы, — говорила я ей осторожно в каждый приезд. — Я совсем не пью вечером, не могу потом уснуть. Может, и у тебя так же? Может, просто перестать пить?
— Это единственное, что меня успокаивает, — качала головой мама. — Я ведь в такой глубокой депрессии, ты же знаешь.
— Да, я знаю, мам. Депрессия лечится лекарствами. Нужно пойти к врачу.
— Не хочу ничего.
Я думаю о том, когда это началось. В детстве меня тревожила эта ее черная тоска, грусть, которая жила в ней почти всегда. В глазах и уголках рта, в том, как мама произносила слова. Я не могла понять причину. Вот мама целует меня перед сном и мы смеемся. В лобик, в носик, в ушко, в губы, в обе щеки и снова по кругу — ежедневный вечерний ритуал. Мы лежим рядом, и мама поет мне про четыре дождя. «Дождь бывает серый, синий, желтый, голубой». Голос у нее красивый, высокий. Я прижимаюсь к ней под одеялом. Мама поет и наслаждается сама этой песней, в этот момент для нее никого не существует.
— Мама, а бывают черные дожди? — произносит моя мама. Это в колыбельной спрашивает малыш.
— Не-е-ет, не бывают, — шепчу я в темноте.
Но в этом месте мама делает паузу, словно не уверена, что песня закончится хорошо.
«Где-то есть город, тихий как сон… может, впервые за тысячу лет дайте до детства счастливый билет», — поет мама. Все мамины колыбельные — печальные. Мамин голос красивый и грустный, как у Эдиты Пьехи.
По утрам я прибегаю из детской в спальню к родителям.
Я ложусь рядом с мамой и закидываю на нее ногу. И чувствую ногу отца.
— Занято, — говорит он и улыбается. Его рука под маминой подушкой. Я тоже люблю класть руку кому-нибудь под подушку и чувствовать тяжелую прохладу. Наши руки под ее подушкой встречаются.
Летом мы едем втроем в Анапу. На день рождения мамы родители танцуют в кафе на набережной, и я смотрю на них не отрываясь, положив голову на руки. Мне хочется, чтобы этотмомент длился и длился.
А потом, на следующий день, я выбегаю из корпуса, вжимаюсь в угол и плачу, потому что они снова ругаются в номере, кричат друг на друга.
Даже когда нам изредка хорошо втроем, я все время жду подвоха. Я знаю: гроза придет неожиданно, я не успею к ней подготовиться. Мамино настроение меняется слишком быстро. Оно всегда держится в самых крайних точках: садняще-черное или ослепляюще-белое.