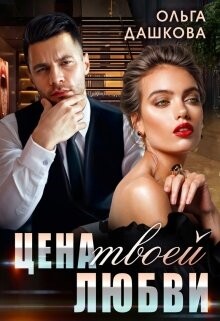Хорея - Кочан Марина
Мой разговор с Лешей теперь сдерживал меня, но на всякий случай я решила вести в заметках телефона «Дневник раздражения» и делать там записи о своих приступах гнева.
В конце апреля я стала лучше спать. В апреле Сава впервые засмеялся. Его смех был тем, ради чего можно было терпеть усталость и ежедневную рутину. А еще этот смех можно было выторговать. Стоило только подуть Саве на волосы, как он заливался радостным хохотом. Лежа на спине или животе, он подолгу разглядывал свои руки и ноги, разглядывал так, как смотрят на драгоценный камень или экзотического зверя. Он, как в замедленной съемке, проводил рукой перед своими глазами, шевелил пальцами: они еще не до конца ему принадлежали. Управлять своим телом — это как научиться водить машину: сначала видишь только отдельные детали, концентрируешься на каждом знаке, а потом вдруг понимаешь, как все это связано, видишь картину целиком.
В мае я нашла на карте маленькое озеро в тридцати минутах ходьбы от дома, и в один из теплых солнечных дней мы направились туда. Озеро расположилось прямо возле трассы, но в небольшом углублении, окруженное с трех сторон смешанным лесом, уже просохшим от талого снега, с темно-коричневыми тропинками, засыпанными хвоей. Спуск к воде оказался слишком крутым, местами даже экстремальным. Посреди озера были небольшие насыпные островки, и там галдела, как стая птиц, группа мальчишек-подростков. Наверное, они приплыли на плоту, который дрейфовал рядом с островком, и теперь грели бледные тела под первыми теплыми лучами. Один мальчишка даже разделся до трусов. Я долго наблюдала за ними, присев на берегу.
В Сыктывкаре у нас тоже был лес, он начинался прямо за домом. Там были проложены асфальтовые дорожки, но никто никогда не ухаживал за ним. Дорожки быстро потрескались, и широкие темные трещины летом прорастали одуванчиками, осокой, лопухами и подорожником. После долгой снежной зимы, с октября по апрель, наступало половодье, и вода стояла повсюду. В одном особенно большом углублении образовывалось что-то вроде пруда. В этом пруду мы с подругой катались на плотах-поддонах, толкая себя от берега почерневшими за зиму мокрыми ветками. В этом же пруду летом мы отлавливали маслянистых черных головастиков и жирных пиявок и сажали их в банку.
В этом лесу мы собирали сокровища: кусочек мха, опустелый улиточий панцирь, трупик осы, трупик шмеля, березовую кору, гриб чагу, твердый и немного пористый снизу. Я предложила подруге сделать частный музей природных экспонатов, каждая — у себя дома. Я разложила экспонаты на книжной полке в своей комнате, подписала названия на бумажках размером с ноготь.
Но в один из дней мне вдруг стало тревожно при взгляде на свою «музейную витрину». Я подошла к полке, приподняла чагу и сразу отбросила в сторону: копошащийся белый личиночный комок остался лежать, извиваясь, на коричневой потрескавшейся лакировке. То, что выглядело красивым снаружи, уже было изъедено изнутри. Я смела все одним махом в мусорный пакет и крепко завязала, перед тем как выкинуть.
Этой весной ко мне вернулись детские воспоминания и внимание к деталям окружающегомира. У меня появилось много времени для созерцания. Я вдруг почувствовала само время так, как его чувствуешь, только когда ты маленький, когда его у тебя еще много. Когда в нем есть пустоты и лакуны, ничем не заполненные, это время можно потрогать, ощутить, как оно движется, как оно становится стрелкой на часах, как день вползает в ранний зимний вечер.
Теперь время для меня было цельным массивом, оно не измерялось минутами, я не торопилась, не бежала, не ехала. Время стало похоже на бесцельную прогулку, когда нет точек А и Б, когда просто шатаешься по городу, глазеешь на горящие окна и витрины кафе. Я нюхала почки и первые побеги зелени. Впервые увидела, как растет еще не развернувшийся папоротник: на кончиках длинных полупрозрачных стеблей ютится крошечный зеленый кулачок-улитка. В книжке «Яблочки-пятки» с разными потешками и присказками был такой стишок: «Кулачок-улитка, отвори калитку. Дай с ладошкой подружусь и за пальчик подержусь». Мне стало понятно сравнение листьев с человеческими ладонями: с приходом в мою жизнь ребенка природа стала казаться мне более антропоморфной.
В мае в лесу возле озера выросла заячья капуста. Я вспомнила, как мы с папой и мамой срывали ее во время прогулок по лесу за нашим домом. На вкус она как кислый лимон или щавель. В маемне исполнялся тридцать один год. Болезнь проявляла себя чаще всего в диапазоне от тридцати до пятидесяти. И я вошла в этот рискованный возраст.
Глава 3
В июне в лесу возле озера я нашла землянику. Ягоды были крупные, темно-красные. Я протянула их Саве на ладони. Он ухватил одну двумя пальцами и аккуратно донес до рта. Он ел ягоды одну за другой, сосредоточенно глядя на мою ладонь — сколько еще осталось.
В лесу за домом в Сыктывкаре была наша с папой тайная земляничная поляна — так мы назвали участок земли шириной в два моих шага. Один раз мы свернули с привычной тропинки, и он сказал: «Сейчас я покажу тебе кое-что». Наверное, он нашел это место, когда гулял один, и радовался своей маленькой находке, улыбаясь в усы.
— Земляника, — сказал он, указывая под ноги, таким тоном, словно только что сделал научное открытие.
В то лето, когда мы нашли тайную поляну, мне было двенадцать. Папе дали путевку на двоих в санаторий Нижне-Ивкино. Такие поездки раз в год были положены ему как человеку, пять лет подряд ездившему в Чернобыль после аварии на реакторе. Первый раз он поехал в восемьдесят седьмом. Я родилась в восемьдесят девятом, то есть была «чернобыльским ребенком».
Поездка в санаторий под Кировом была нашим первым и, как оказалось потом, единственным дальним путешествием вдвоем. А для папы это был последний раз, когда он выбрался из Сыктывкара.
Санаторий со всех сторон окружали леса и болота. Территория открыта, всегда можно выйти за пределы. Я исследую сначала дорожки и корпуса, а потом ухожу в лес одна, пока папа на процедурах. За зданием столовой нахожу подберезовик размером с кувшин. У него темно-бурая шершавая шляпка, крепкая белая нога без единой червоточины. Я приношу его к обеду и кладу на белую скатерть перед тарелкой отца.
— Ого, — говорит он. — Подберезовик. Они редко сохраняются, черви любят их отведать свеженькими.
Втайне я надеюсь, что мы сможем его приготовить. Но в номере нет плиты, и тогда папа предлагает разрезать его на мелкие куски и засушить на батарее, чтобы увезти домой. Подберезовики и красноголовики — мои любимые грибы. Когда чистишь ножку ножом, снимая длинные серые стружки, она становится идеальной, гладкой. Сжимаешь ее на мгновение в руке, а потом бросаешь в миску с холодной водой.
В Сыктывкаре мы тоже часто собираем грибы в лесу за дачей. Наше дачное сообщество называется «Чернобыль». Государство выдало папе этот участок — здоровая земля взамен на исследование зараженной. Когда он заболеет, мама будет уверенно говорить, что во всем виноват Чернобыль.
В восемьдесят седьмом папа впервые едет в Чернобыль. Где-то в безлюдной украинской деревне он режет зараженную почву на слоеные распадающиеся куски, упаковывая в прозрачные пакеты, как детектив пакует вещдоки. На нем нет защитного костюма, их не хватало даже для ликвидаторов и медиков. Есть только маска-лепесток. Надел ли он ее? Зараженная земля выглядит так же, как здоровая. Раны этой земли невидимы, их нельзя потрогать. Раны человека гноятся, но зараженная земля все вбирает, впитывает в себя. Мать сыра земля, отравленная мать, которая еще нескоро сможет родить.
Заброшенные дома, пыльные раскаленные дороги, деревья с рыжеватой копной в закатных лучах особенно хороши, скрипящие ржавые калитки, кусты за заборами ломятся от цветов и плодов, будто ты в райских кущах. Но ты в самом преддверии ада. Ты уже в сговоре с дьяволом, и ради сакрального ученого знания жертвуешь всем и ставишь на кон свою жизнь. И здоровье своих еще не рожденных детей.