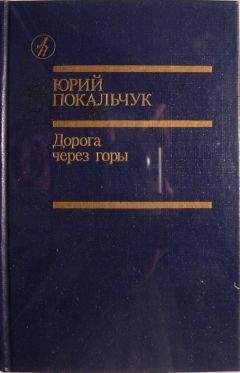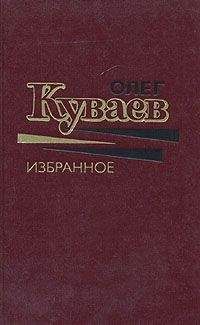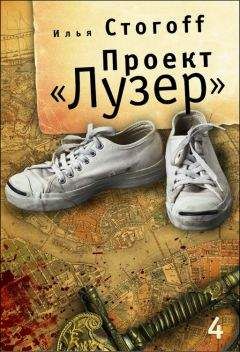Юрий Покальчук - Никарагуанские рассказы
Пролетело... Я вот даже учиться ездил, лейтенантом стал, но с тех пор, как вернулся, дома был только недели две, потому что усилились нападения контрреволюционных банд, мы постоянно были в действии, времени на отдых оставалось мало. Больше того, и рассказывать дома о том, где ты служишь и что делаешь, не приходилось подробно, военная тайна, да и что было говорить, когда война не закончилась для нас, разве что для меня, пока учился, вроде бы и отвык, но где там, только приехал, один за другим потянулись напряженные, жесткие военные дни да бои.
Так и живем: тренировки каждый день, учёния, и — в бой. Остался живой — продолжаешь.
Ага, еще о Лауре, ну, я уже говорил, что это тоже была наша соседка, мое увлечение с детства, едва старше была Рауля, когда я пошел партизанить, но уже считалась моей невестой. Несколько раз я наведывался домой и с гор, посылали меня с поручением, все же у меня долго был не очень военный, то бишь воинственный вид. Лаура ждала меня, ох, как ждала!
Вот и вышло, что первый мой сын, Алехандро, родился за два месяца до победы революции, а уж потом мы поженились, ну, я ведь вам говорил, что еще и рука у меня была прострелена. Товарищи подсмеивались — это ты, мол, нарочно это себе устроил, чтоб с молодой женой дольше вместе побыть. А что от этой проклятой автоматной очереди погиб Дионисио и Фернандо был так прострелен, что лежал едва ли не полгода, пока не пришел в себя, это не вспоминают. В день победы ехали мы на машине по Карретера дель Норте и я сидел сверху, прямо на капоте, хотелось мне покрасоваться, а Дионисио и Фернандо, свесив ноги, на борту этого джипа, стреляли как раз с той стороны, где они сидели и где я держался за борт левой рукой, чтоб не съехать с машины.
Джип двигался медленно, стреляли из дома, нас в машине было около десятка, выскочили и поймали все же еще довольно молодого недобитого сомосовца, который уже убегал задворками, люди помогли, ну и стрельнули его прямо там. Но что толку, Дионисио погиб, Фернандо тяжело ранен, ну и я...
Вот и скажите: везет мне или нет? Если равняться с теми, кто погиб или даже тяжело ранен, то я в рубашке родился, а если с теми, кого даже не царапнуло, то неудачник я.
Короче говоря, дважды я приезжал домой и не заставал Рауля. Все остальное шло отлично, но чего-то мне не хватает, когда долго с ним не вижусь, вроде как-то не заполнена моя жизнь, не цельная она, что ли. Я потерял немало друзей в этой войне с сомосовцами, столько у меня боли, а Рауль почти единственный, с кем я сроднился душой, да еще с детства, и кто остался в живых. Он сейчас тоже в армии, сержант, думаю, и он со временем будет учиться, мы все должны учиться, это наше самое главное задание. Раулю особенно нужно, потому что он и в школе проучился меньше меня. Кстати, я не сказал: он наполовину индеец, у его матери родители чистые индейцы, из племени рама, а отец был испанец, даже светлоглазый, поэтому у Рауля косоватые индейские глаза, смуглое лицо, темные прямые волосы, и что самое удивительное — все в нем индейское, а глаза вот отцовские, светлые, глянешь на него — чудо, да и только.
Вот у него тоже волосы прямые, но как-то лежат, а у меня — торчит копна, и все тут. Хорошо, что хоть мода сейчас какая-то такая, что эту копну можно под нее пристроить, все же хорошо, что я женился рано, уже дети есть, теперь могу не переживать.
Это Хорхе, а он только что женился, сразу после той тяжелой операции на Атлантике, как-то, посмеиваясь, говорит, что ты, мол, моложе меня годами, но теперь я моложе тебя по существу, потому что твои дети гораздо старше тех, которые должны появиться у меня. Так что тебе теперь нечего переживать — «цыпленок» ты или взрослая птица, потому что ты уже, как отец и глава семейства, списан из категории молодых. Вот я — молодожен, следовательно, молодой, ну и такие, как Сильвио или Умберто, холостяки, мне ровня, мы люди молодые, а ты — отец цыплячьего семейства...
Ну и такое прочее.
Сильвио и Умберто — по восемнадцать лет, вот почему он так говорит, и они еще совсем щенки, что с того, что ушлые и побывали немного в боях. Меня с ними сравнить — нарочно меня обидеть, но ведь я знаю, какой Хорхе добрый и внимательный, и шутки у него в общем не злые, а нормальные приятельские поддевки, поэтому улыбаюсь и говорю:
— Как ни крути, Ларго, но ты уже стар, тридцать лет — это дед, как для Сильвио или Умберто, а для меня тоже немало, я в таком возрасте буду уже своего старшего женить, а ты только за ум взялся, так что догоняй молодежь, дед!
А вот здесь Хорхе посерьезнел да и говорит: кстати, Маноло, ты присмотрись к этим двум ребятам и вообще выбери у себя во взводе, а может, и шире, в батальоне, еще нескольких, ну, скажем, чтоб всех, вместе с тобой, было десять...
— Зачем? — спрашиваю я, уже понимая, что, наверное, речь пойдет о новой операции.
— Тоже мне вопрос! Сам понимаешь! Но не спеши и никому ничего не говори. Когда нужно будет, Маркон тебе сам скажет, что и как. Кстати, ты за шутки на меня не обижайся. Я-то знаю, чего ты на самом деле стоишь, учиться тебе, но другого послали, это же не случайно! Сколько лет вместе воюем! Ну и... вообще... Сколько уже за нами! Помнишь Лас Перлас?!
Я все помню! Я хорошо все помню! И, конечно, знаю, что меня ценят, я хорошее все и всех всегда помню, не люблю об этом говорить, никому, никогда не говорил, как переживал смерть товарищей, не могу об этом ни с кем разговаривать, разве что с Раулем. Может, потому так и ждал я его все свои отпускные дни, даже перед тем, как возвращался на базу, мотнулся в Эстели, где стоит его подразделение. А они как раз за день перед этим отправились куда-то в горы, на задание или на учение, так я и не узнал.
Дело еще и в том, чуть не забыл сказать, недавно получил я на свою семью новую квартиру, хорошую — из трех комнат, почти в центре Манагуа, в квартале Альта-мира. Раньше там вообще проживали только богатые люди, а теперь по-разному. Есть и те, кто остался с давних времен, есть и новые, те, кто поддерживал революцию и получил от государства квартиры, которые раньше принадлежали сомосовцам, врагам революции.
Вот так умудрился и я, кстати, попал в соседство не самое приятное, и когда дома, грущу иногда за своим предместьем, потому что с правой стороны, в таком коттеджике, как у меня, а может, немного большем, живет семья бывшего национального сомосовского гвардейца, который сейчас в заключении.
А еще через два дома — семья богатого, коммерсанта, хозяина магазинов, связанного с сомосовцами различными связями, который сбежал и сейчас живет в Коста-Рике.
Поскольку Лаура опять беременна, то ей сейчас жить особенно непросто в этом окружении. Нужно поддерживать революционный дух и среди соседей, причем показать себя, то есть нашу семью, на высшем уровне, и детей нужно воспитывать, и так далее.
Мама моя часто и подолгу живет теперь с нами, хотя там еще ведь пятеро, потому что две сестры мои, одна старшая, одна моложе, повыходили замуж и тоже имеют детей, а Октавио, на три года моложе меня, служит в армии. И самый меньший, Карлос, ему восемь лет, это мой любимец, он вообще больше живет у нас, чем в родительском доме мамы. Вот так мы и справляемся, то в одном доме, то в другом, и мама тоже — то здесь, то там, только я уже давненько подолгу дома не задерживался.
Когда приезжаю, стараюсь думать только о них — о маме, о Лауре и моих малышах, о братьях и сестрах, даже об отце нашем непутевом и то думаю.
Лишь бы не думать о том, что пережил, что видел, что чувствовал все эти десять лет моей войны — пять партизанских и послереволюционных пять в отряде Маркона.
Разве такое забудешь! Разве хоть что-то можно забыть, когда именно там, в партизанском своем житье, понял я самое главное: что есть человеческое братство, законы дружбы, веры и совести.
Учился жить в лесу мальчишка из предместья Манагуа, который о горах и о сельве знал, что есть такие в нашей стране там, на севере, — есть и все. А теперь я учился понимать лес по деревьям, по муравьям, по ветру, по кустам и цветам, зверям и птицам. Я учился лесу, учился жить среди природы и одновременно постигал законы высшей человечности, законы классовой борьбы и законы войны.
Ясное дело, подготовлен я был хорошо, потому и пошел в партизаны. Достаточно знал и понимал в нашей сандинистской идеологии, впитал ее в себя полностью и поверил в нее, и другим разъяснял.
Совсем иначе я стал воспринимать все это в партизанах. Люди эти меня учили, просто люди, мои товарищи, непроизвольно становились мне примером время от времени. И я думал.
Задумывался, часто по ночам в длинных наших переходах, или на страже в лесном лагере, или же перед боевой операцией. Было когда задумываться. В горах у нас хватало места и времени для размышления.
Остальное время забирали тренировки, учения, которые мы проходили в лесу, потому что должны были стать бойцами, настоящими бойцами регулярной сандинистской армии, не группой сосунков-добровольцев, которых регулярная вражеская армия разобьет сразу.