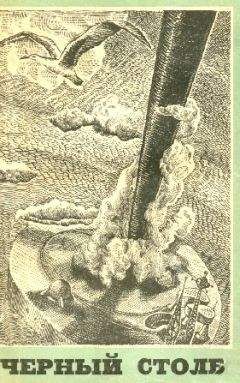Филипп Берман - Регистратор
да ведь любой человек знает всегда, что хорошо для всех будет казаться и что будет казаться плохо для всех, и знает, что на самом деле хорошо для всех, хотя и кажется плохо, и что плохо, хотя и кажется хорошо! но так наш все знающий человек приспособлив, так все знает хорошо, так все учитывает, так все научен учитывать все, так научен дорого (да что там дорого! жизнью, самым дорогим для него предметом), так научен дорого платить за все, что в тишке души своей носит, что попусту, — даже когда уж вроде все можно, уж все за то, что можно, — а все равно не выкладывает, все равно носит в себе невидимо, и все старается убедить себя, что ничего у него там нет, и себя, да и всех тоже, нет даже такого места у него, так убеждает себя, так старается, чтобы ему поверили, что нет у него своего тишка, — что и душу порой готов выбросить вместе с этим своим тишком! а все оттого, что в случае чего, в случае, когда он откроется, да не к месту, — придется сразу заплатить всем, всем, что есть у него;
не духом он силен, этот человек, и не истина жизни ему дорога, а еда, сон, жена, дети, солнце, а не дух, а не истина предмета ему дороги, — а все это приходится платить за что же?
что ж это, есть ли место такое на дне нашей души (на дне ли?), что это за такое место, за которое все надо отдать, а оно что? пустота? неизвестно что, ни измерить его, ни увидеть каким-нибудь прибором нельзя, чувствуешь, что есть, смущает-тревожит, а найти-проявить его нельзя, и за него надо отдавать все то счастье, которое есть от жизни на земле? так зачем же тогда? не было у меня ничего и быть не могло! ничего не было, ничего! поэтому так: ничего у меня нет, уж лучше я буду всегда притаивать, всегда притаю свой тишок (туда же все же не заглянешь, сказать-то, конечно, можно все, но уж заглянуть-то нет, нет его и все!), а он-то лучше всегда будет там внутри, и тогда я всегда буду со всем, с чем родился на земле, со всем! и всегда так было у нас, что дорого за все платили, дорого, а за всякую чепуху;
за слова, да за смех, да за взгляд, да мало ли какой чепухи еще сыщешь, за что платить: не то сказал, не туда пошел, не так глянулся, не за того вышла, да не на той женился, да не то читаешь, да не то пишешь, да не то ищешь, да не так дышишь, да не так бежишь, да не так ешь, да и ведь не то ешь, что все любят и едят все, а ты ведь ешь-то вместо селедки, ты-то ведь: ешь-то капусту! а все-то ее уже не едят, а ты-то ешь ее еще; да не с тем спишь, да не так, прости меня, господи, ссышь (кривовато!), да не так слышишь, да не о том пишешь! — хошь, не хошь, а сможь! — да так всегда было при ком угодно, всегда платили дорого у нас за все;
и нет никакой особой загадочной русско-славянской души, нет никаких ее тайн, ничего не найдет в ней ни один европеец или американец никогда в жизни, и ничего не поймет в ней: ничего загадочного в ней, того, что ищет нет, и того, чего не понимает он в ней, нет ничего, — не найдет откуда так все? — никогда не найдет откуда, пока сам не переселится, пока сам не начнет платить веками, так, как платили в России, а там уж неважно кто, русские ли, американцы, татары ли, евреи ли, или чехи! все приобретут за несколько веков жизни такую же загадочную русскую душу и тогда другие будут ее примерять и разгадывать — душу бывших американцев, или чехов, и все не смогут никак понять и разобраться в ней! и будут говорить, что ж это такая душа у американцев? как же они терпеливы, как же они все снесут и останутся, не изменят своей внутренности, своей глубинной душе, как же их понять, этих американцев? их-то ведь секут, а они поклоны бьют, им-то жрать не дают, а они-то говорят, что все-то у них есть, и ничего-то им не надо: ну и американцы, ну и душа! ведь вот какая загадка, а? им горчицы под хвост, а они слижут ее без закуси, да еще благодарно глянут! и образуют (эти изучающие) несколько институтов, и под микроскопом будут рассматривать загадочных американцев, загадочную американскую душу (а загадка-то ускользнет дальше и спрячется, тишок поменьше станет), и скажут тогда они: ну и американцы: ну и душа у них: вот ведь душа! прям, как славянская в точности, что ж это тогда такое, что русская, а что американская? один хрен, обе одинаковые: что у чехов, что у болгар, что у поляков, что у венгров, что у немцев, что у евреев, что у румын и американцев у всех одна стала душа, глубокая одинаково, и тайно одинаково неразгаданная, что ж это такое? чем же секрет-то? и так разведут руками ничего не поняв: а вы-то, дорогой читатель, все поймете, мы-то с вами все поймем, вы усмехнетесь только, да в тишок усмешку свою спрячете, а им-то скажите, да глядите же, мы всегда пожалуйста! и изучайте и изучайте нас! мы-то всей душою к вам!
мог ли кто-нибудь предсказать, что Илья, пройдя через все мясорубки, которые судьба устраивала его поколению, и всем, кто шел с ними, останется жить, а потом умрет, оттого, что его толкнет сосед на лестнице в семьдесят пятом году, когда он будет возвращаться из прачечной с тюком белых простыней? (жена в это время будет жить у Нади, сын, Митя, из-за своей нескладной жизни, неизвестно где), он упадет, ударится головой о мраморную лестницу и будет лежать так вниз головой сутки, еще живой, и сосед только под утро обмолвится об этом дворнику, уходя на работу, a тот будет подметать двор в шесть часов утра; сосед переедет на другую квартиру, вместо дома останется пустое пространство, двор на этом месте заасфальтируют, будто ничего никогда здесь не было, и когда Митя будет проезжать от Новослободской до Пушкинской на троллейбусе, он все никак не сможет представить, что здесь, в этом пустом пространстве, приблизительно метров шесть над землей, над асфальтом, в этих нескольких кубометрах воздуха жили довольно много лет его мать с отцом, он все пытался представить, что они и сейчас там есть, приподнятые над землей, но не мог; сосед будет жить еще три года, потом погибнет сам от несчастного случая, в автомобильной катастрофе, как раз когда Митя поймет, что отец был все-таки убит, а не поскользнулся;
позже (госстрах надеялся доказать, что он был пьян: за несколько месяцев до несчастья отец, уплатив пять рублей, застраховался на две тысячи от несчастного случая; госстрах надеялся, что медзаключение укажет, что он был пьян, у отца действительно в кармане была бутылка вина, но медзаключение этого не укажет, потому что он был абсолютно трезв, и сестра, точнее племянница, получит две тысячи, потому что страховка была на ее имя, причем особенно будет хлопотать об этом Александр, Надин муж), позже… ну что же позже? позже было все вот это и как много времени прошло с тех пор!
мог ли кто-либо предсказать все это?
обрывались нитки, на которых был подвешен вспыхивающий, дымящийся город.
Картинка с велосипедом имела следующее развитие (как же это жгло родной болью! может быть, и у нее было так: оставалось что-то, потом всплывало перед нею, — что ж, и это было счастьем? до тридцать восьмого года, все счастье матери концентрировалось для него вот только в одной фотографии, где они были вдвоем с отцом, какие же у них там были лица!), продолжение ее было такое: как они поехали через всю Москву на нем, отец, счастливый, шел рядом, а он ехал от Никитских до Сокола, через Патриаршие пруды, через Маяковскую, а потом еще чуть дальше от Сокола, где жил его дед, и сейчас Митя помнил, как он въехал во двор к деду! потом была какая-то драка со своим двоюродным братом, сыном Якова, который жил с дедом в одном доме, Митя ударил его чем-то, или молотком, или рукояткой ножа, это еще тогда, в двухлетнем возрасте, но это было у деда в доме, а в сорок первом году помнил все слитно на всю будущую жизнь: бомбежки, после них он выбегал из дома, собирал осколки, а потом это воспоминание очень берег, оно было радостным, потом как мать подхватывала их, и они бежали в бомбоубежище, сестра потеряла ботинок, они побежали обратно искать его, вот, что еще запомнилось, что не было тогда отца, мать видела, как он выполз из рва, и она знала и говорила всем, что он на фронте — на каком же отрезке жизни, она была счастлива? — вот все, что Митя тщательно упрятывал в себе, когда потом когда-либо вспоминал, сейчас представилось, разворачивалось перед ним (кем-то?): как отец наклоняется, сидя на кровати перед Зинкой-соседкой, Зинка лежит на кровати, накрывшись простыней, но Митя почему-то знает, что она под нею голая, простыня, будто влажная, обтекает ее, Зинка смеется громко; его отец, Илья, сидит рядом, и наклоняясь, притягивается к ней, целуя, а они, он — Митя и дочь Зинки, которая была старше Мити года на четыре — Валька, пока еще здесь же, потом отец дает им альбом с фотографиями — (об этих фотографиях: потом он их веером рассыпал, в 60-ом, в 70-ом годах, на него смотрели разные лица, в военных гимнастерках, в смешных пиджаках, кепках, юбках, осталось в живых только несколько человек, почему-то сохранилась их семья, остальные были на бумаге, все они исчезли либо в 37–38 годах, либо в войну) — и посылает их к ним домой, в их комнату, от нее, до Валькиной — два шага, но что-то от Мити, какая-то часть его все это видит, остается там, почему-то он видит, как отец притягивается к ней; и все это в нем, так же, как велосипед, остается на всю жизнь, с двух лет, с тридцать восьмого года; когда не было ни Валькиного отца, ни Зинки, они запирались у них в комнате, Валька его быстро обучила всему, они ложились на эту же кровать, и долго, неутолимо-сладостно делали все (лежа на ней, он мгновенно становился своим отцом, в него что-то входило из будущей его жизни, это было уже более позднее воспоминание), неутолимо-сладостно, после чего, они перестали с нею расставаться, а днем забегали в сарай и запирались там, чтобы продолжить, Валька сладостно повторяла еще какие-то слова, которые повторял ее отец Зинке, и они для Мити соединялись с тем, что они делали, она еще говорила слово восхитительно! потом, когда они заканчивали, Валька делала так: она отходила от него на небольшое расстояние голая и быстро произносила громко: лук, чеснок, горчица, перец; при слове лук, она двигала свои бедра, немного приседая, влево, при чесноке вправо, а горчица и перец приходились на заднее движение и сильное движение вперед, после этого она быстро одевалась и выбегала из сарая, а за нею Митя: но тогда, он всего этого не помнил, как отец наклонялся над Зинкой, как давал им фотоальбом, горы фотографий (почти все теперь было только на картине), чтобы они шли смотреть в другую комнату; они листали его с Валькой, фотографии рассыпались, позже, когда это повторялось, они вместо того, чтобы листать, сами начинали пододвигаться, устраиваться так, чтобы касаться и обнимать друг друга, а потом все караулили, когда Зинка уйдет, выжидали как бы незаметно туда пробраться, Зинка работала во вторую смену, а отец Алексей Николаевич, весь день был на заводе токарем, Валька еще закрывала ставни, между прочим, из фотографий их особенно привлекала фотография дяди Мити — Самуила, он был снят в Крыму, на пляже, в санатории, плавки его туго обтягивали, и плавки выпирались мощно, будто натянутая на столб туристская палатка, вот эту фотографию они подкладывали к себе поближе, чтобы она невзначай попалась им еще раз, и, поглядывая на нее, они теснее прижимались; после того, как она запирала ставни, она закрывала дверь на ключ, и в доме устанавливался полумрак, из окна проникали в щели между ставнями лучи солнца, тогда в комнате становилось и прохладно, и тепло одновременно; у Мити вот еще что было: тайно он осматривал Зинку, она была крупной большой и стройной женщиной, ему хотелось как бы случайно, остаться с ней, и он был беспредельно уверен, что она будет делать с ним все, что она делала с его отцом (было еще одно воспоминание того же сорта: дело происходило летом, ему было уже тогда лет четырнадцать, в гости к ним приехала красавица Лиля, он лежал на диване на животе в трусах и читал книгу, она сначала посмотрела, что он читает, потом села рядом, дома никого не было, и она ожидала пока все придут, она обняла его и легонько стала поглаживать его спину, только кончиками пальцев, одними подушечками, легкое прерывающееся подрагивающее касание, от которого мгновенно он чувствовал внутренний ток, сосредотачивающийся в одной точке, он сделал вид, что увлечен чтением, мечтая, чтобы это наслаждение продолжалось, а она тем временем продолжала, что-то слабо напевая, что-то неопределенное, но относящееся к этому поглаживанию, потом она приподняла со спины его трусики и нежно проникла туда рукой. Митя едва мог теперь дышать, он положил голову на книгу и закрыл глаза, сдерживая дыхание, а она между тем делала все очень медленно, двигаясь вниз, прерывисто, и от ее прикосновения все в нем неутомимо ждало немедленного продолжения), потом разом все забывалось и обнаружилось лет через двенадцать, после эвакуации старой тягой к Вальке, Вальке тогда было лет двадцать, снова все всплыло, и, казалось, никогда не забывалось, а было так всю жизнь, и теперь, когда все совершалось, казалось, что было так всю-всю жизнь, при этом он видел, как это делал отец с Зинкой, он как бы был одновременно и с Валькой, и с ее матерью, и вспомнил, что чувствовал себя своим отцом и самим собою, Валька его прижимала и все повторяла какие-то слова, какие, он ни когда не слышал, но они были их условным знаком, все было вместе связано, как она дышала, как говорила, обняв, она шептала эти слова, он снова все вспоминал — так открылась еще одна створка его раковины.