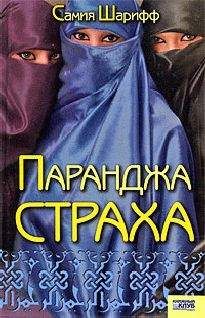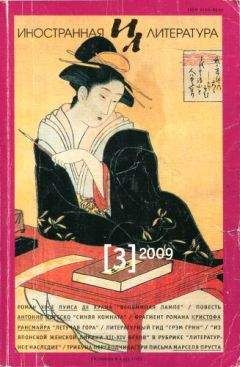Валерий Губин - Вечное невозвращение
— Он самый. А Утенкова?
— Не помню.
— Не мудрено, его еще на первом курсе отчислили. Он писал сценарий и листы складывал в тумбочку, закрывая на амбарный замок. А как-то ночью, пьяный, перелезал через забор, пропорол пальто чугунной пикой и так заснул там, на трехметровой высоте, до утра.
— Ну, этого-то я помню, только фамилию забыл!
Макаров проводил приятеля до метро и клятвенно обещал регулярно звонить.
— А мою фамилию ты, кстати, не забыл? Да не мучайся, Новиков моя фамилия.
— А отчество как твое?
— Обойдешься и без отчества.
Потом Макаров шел, слегка покачиваясь, и думал о том, что не только женщины, а вообще все имеет смысл только в том случае, если ты сам это создал. Все, что не создал сам, — призраки. Они сегодня есть, а завтра нет, они необязательны для тебя, так же как и ты для них. Как же тяжело должно быть живому человеку, который сам все создает! Для него любая вещь — падающий лист, шум дождя или выражение лица встречного человека — это все он сам, это все окрашено его переживаниями, это все вызывает в нем радость или боль. Наверное, такие люди встречаются только на Марсе, и он сам уже несколько дней пытается быть таким, и кажется, у него получается.
Ночью он проснулся с сильно колотящимся сердцем, сел на диване, потом на цыпочках, чтобы не разбудить Анну, прошел в кухню. Ничего сердечного в аптечке не было, но в буфете он обнаружил початую бутылку коньяка, выпил треть стакана и сел, прислушиваясь к себе. Вскоре отпустило.
И вспомнился ему сокурсник Утенков, тот самый, что писал сценарий и складывал его в тумбочку под амбарный замок. Вспомнил, что Утенков несколько раз рассказывал ему по секрету про свою двойную жизнь. Здесь он учится или почти не учится на первом курсе университета, а в другой жизни он летит в космосе. Больше всего поражали те подробности, которые он приводил, рассказывая о другой жизни. Месяц он проводит в анабиозе, а месяц сидит перед пультом, глядя на экран. И на этом экране ничего не меняется — четыре звезды слева, словно выстроившиеся в очередь, а справа уже который год тянется унылая, сильно разряженная туманность. Правда, из четырех звезд вторая за последний месяц стала немного ярче и слегка затмевает свою ближайшую соседку.
Утенков рассказывал все это три или четыре раза, поэтому Макаров так хорошо тогда запомнил подробности и вот только сейчас вспомнил.
«А еще, — говорил Утенков, — всегда на том же градусе, на том же месте экрана, еле видимое мерцание. Это не звезда, это дюзы ведущего корабля, он идет в нескольких тысячах километров впереди. Два корабля, словно в связке, несутся в космосе — две жалкие живые песчинки в огромном грозном ледяном безмолвии». И он, Утенков, очень беспокоится: много лет как перестали поступать сигналы от ведущего, может быть, там уже нет никого в живых, и только автоматы поддерживают заданный курс?
— Знаешь, — сообщил он Макарову несколько дней спустя, — во мне все сильнее растет подозрение: никакого старта не было, мы всегда неслись так в бесконечном пространстве, все дальше уходили в эту пугающую бездну, и в прошлом ничего не было, кроме длительных вахт и длительного сна в анабиозе. И эта моя жизнь очень похожа на ту, она также не имеет ни конца, ни начала, рождение и смерть — только видимость. На самом деле все вокруг — бессмысленная и пугающая бесконечность.
То было время первых полетов в космос, время повального увлечения фантастикой, и Макаров почти серьезно отнесся тогда к фантазиям сокурсника, полагая, что тот просто пишет сценарий и делится с ним своими переживаниями по этому поводу.
Утенков иногда сам приходил к нему в комнату, садился на кровать, долго молчал, и когда Макаров спрашивал, как у него дела в космосе, он начинал рассказывать о том, что в большом космосе вообще все яркое и впечатляющее. Мы отсюда, с Земли, говорил он, представляем его мертвым и холодным. Но когда покидаешь Солнечную систему — там уже все по-другому. Невидимые силовые поля подхватывают твой корабль и несут. Впечатление такое, словно кто-то играет с ним, как с новой диковинной игрушкой, рассматривает, переворачивает, пробует на прочность. Иногда эти неосторожные заигрывания губят людей, а иногда Космос одаряет их такой удивительной, ни на что не похожей радостью, что человек, почувствовавший ее, становится другим, понимая, что больше никогда не сможет прожить без Космоса.
— Если серьезно подумать, то вся наша жизнь, все наши поиски, страдания, разочарования, наша любовь и наша ненависть имеют скрытый космический смысл. Если ты его не чувствуешь, то остаются только скука и кошмар повседневной монотонности.
Последний раз он встретил Утенкова в общежитии после отчисления — тот шел с чемоданом к выходу, собираясь ехать в свой Курск. Макаров посочувствовал ему. Они сели на чемодан покурить перед дорогой.
— Отчислили, не отчислили, все это ерунда, — сказал Утенков. — Вчера наконец случилось. Я задремал перед экраном и вдруг услышал резкий сигнал зуммера. Это был ведущий, он вызывал меня. Впервые за много лет. Я увидел, что он меняет курс — мерцающая точка впереди быстро смещалась к центру экрана. Я теперь не один, я знаю, что у нас есть цель!
Его лицо светилось неподдельным счастьем, а Макаров подумал, что у мужика поехала крыша от переживаний, связанных со скандалом и отчислением. Больше он его никогда не видел, а через пару лет услышал от кого-то, что Утенков умер. И Макаров тогда решил, что, может быть, он умер только в этой жизни, а сам продолжает свой путь в космосе. И сейчас, вспомнив о нем впервые за много лет, с острым сожалением подумал: как хотелось бы знать, где он сейчас несется на своем корабле, в каких мирах!
Утром он проснулся оттого, что увидел во сне отца. Тот возмущался, что они живут теперь рядом, а он, Макаров, не заходит.
«Может быть, и правда он теперь рядом».
Но вообще отец его был неуловим. Они разошлись с матерью Макарова, когда тому было четыре года. Потом он пару раз приезжал к ним из маленького уральского городка: в первый приезд Макаров учился в школе, во второй — заканчивал университет. Отец каждый раз дарил ему часы, гостил пару дней и исчезал, на письма он обычно не отвечал, да и Макаров не был большим любителем их писать. Как-то он вообще вдруг пропал. Макаров забыл о его существовании и не вспоминал, наверное, лет пятнадцать, где-то на задворках памяти была мысль, что есть у него отец, но она никогда не актуализировалась. И вот однажды Макаров вспомнил об отце и ужаснулся: по его подсчетам отцу должно быть уже восемьдесят лет, он, возможно, умер. Макаров, пользуясь оказией, попросил своего знакомого, командированного в этот уральский городок, навести справки. Тот приехал и сказал, что ничего выяснить не удалось: по одним данным, Дмитрий Петрович Макаров умер, по другим несколько лет назад уехал в Москву. В московском справочном тоже было глухо. На какой-то конференции он встретил человека из этого городка, попросил его все выяснить — никакого ответа не получил. Был еще один командированный — и все с тем же результатом.
Макаров сам не понимал, почему ему вдруг так захотелось найти отца. Никаких теплых родственных чувств он к нему никогда не испытывал, особенно в нем не нуждался, а теперь вот который год ищет и ищет, словно от этого зависит его судьба.
Он сразу пошел в центральное справочное и всего через полчаса получил адрес отца: тот действительно жил довольно близко от него, в Плотниковом переулке. Все это казалось невероятным, чисто марсианским действием. Он так волновался, что не было сил дотянуться до высоко висящего звонка. Постучал ногой. Где-то в глубине коридора послышались шаги. Открыл заспанный мужчина и разговаривал с ним, не снимая цепочки.
— Нет, таких у нас нет. А хотя, вы знаете, мы ведь здесь живем недавно, а до нас жил мужчина, фамилия очень похожа на ту, что вы назвали, только он помер.
— Сам ты помер, — прокричал из коридора женский голос, — не помер, а переехал. А куда — этого мы не знаем.
— Ну ты вспомни, паспортистка говорила, что Макаров помер, я теперь точно вспомнил.
— Нет, она вроде другую фамилию называла.
Выйдя из подъезда, Макаров долго топтался перед домом, у него было такое чувство, словно ему больше нечего делать и некуда идти.
Из первого же автомата он позвонил Анне.
— Не знаю, как быть, — ответила она, — только что получила телеграмму — муж с дочерью вечером приезжают с юга, я же тебе говорила, что они скоро будут.
— Ничего ты мне не говорила.
— Ну говорю.
— И когда же мы увидимся?
— Если хочешь, давай сейчас.
Они дошли до самого конца парка и сели там на разбитой скамейке. Снизу, с экскурсионных теплоходиков, доносились музыка и пьяные крики.
— Я хочу, чтобы ты всегда была со мной.
— Зачем?
— Только когда ты рядом, я чувствую, что моя жизнь имеет какой-то смысл. Эта неуверенность, что я есть, снова толкает меня под воду, под ту толщу, из-под которой я отчаянно взывал к Богу.