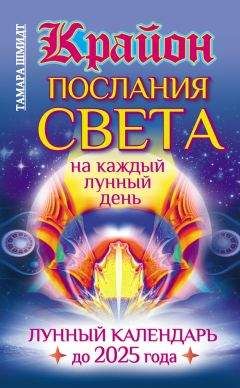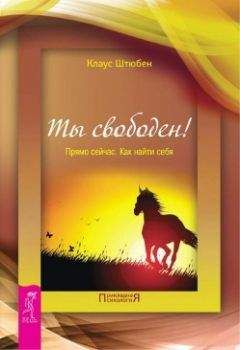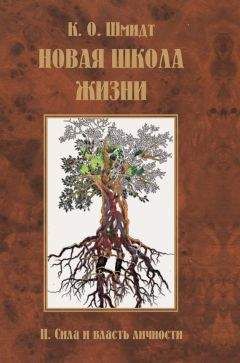Робер Андре - Дитя-зеркало
Профессор с бородкой и темная комната примиряют меня на какое-то время с медициной. Врач снова предстает перед нами в облике спасителя. Однако я ошибся, по-зволив себе поддаться его ложной велеречивости. Она свелась в конечном счете к предписанной мне серии уколов и к тревожному ожиданию будущего, где мне предстояло удаление миндалин; и в результате сплетения интриг мы попадаем к другому врачу, человеку молодому, с приятными, я бы даже сказал весьма дипломатичными, манерами, которые необходимы, видимо, для того, чтобы усыпить мою подозрительность. Ученик профессора — виртуоз по части уколов, так же как его пациент, утверждаю без ложной скромности, — виртуоз по части болезней. Я буду весь в дырках, как решето.
Молодой доктор внушает мпе доверие, но в отличие от своего тулузского шефа он не расхваливает с видом ярмарочного зазывалы себя и свой товар, а держится с подкупающей небрежностью, словно просит: не принимайте меня всерьез, к тому же у него нет громких титулов. Из профессорского списка он сразу вычеркивает ряд лекарств, он верит в простые традиционные средства и советует мне как можпо больше бывать на воздухе; нас с мамой это немного пугает. В минуты волнения он слегка заикается, а иногда нросит собеседника повторить какое-нибудь слово; может быть, он плохо слышит или это у него от рассеянности. Так что у него есть достоинства, есть и недостатки.
Мы долго обсуждаем его кандидатуру, мама высказывается более сдержанно из-за скромного положения, которое занимает он в госпитале, а также из-за того, что он не проявляет должного уважения к святой Медицине; но, с другой стороны, ему покровительствует тулузское светило… Оказывается, нам нужны были оба врача. Неплохо иметь под рукой человека молодого, расторопного, который в случае надобности сразу приедет домой и с которым можно запросто потолковать обо всем. Авторитет профессора граничит с авторитарностью. Преимущество ученика коренится как раз в его недостатках, в том, что он пока еще стажер.
Что до меня, я был пламенным его приверженцем, прежде всего потому, что уколы он делает почти без боли, но, главное, потому, что он подарил мне одну вещь… Да что я говорю — вещь! Настоящее сокровище!
Простая металлическая коробочка, но угадайте, что в ней лежало! В каком-то гениальном озарении скептик доктор положил туда старые шприцы, иглы для уколов, пилочки для вскрытия ампул, зажимы для остановки кровотечения и много еще других восхитительных вещей, незаменимых для тренировки моего умения и ловкости, чтобы подготовить меня к карьере медика.
Мать уже видела меня в ореоле врачебной славы. «Прекрасная профессия, — говорила она, — священная профессия. О, если б я могла начать свою жизнь сначала…» Я не задумывался над тем, что такое священная профессия и как это можно начать жизнь сначала, меня занимало лишь одно — я с упоением протыкал иглой бедную попку и без того обиженной жизнью обезьянки, колол круп своей лошадки и зад своего медведя, впрыскивал в них воздух или воду. Сноровка моя возрастала, и я уже подумывал о том, чтобы расширить свою клиентуру. Взоры мои теперь с вожделением устремлялись к задней части окружающих меня людей. Однажды возникнув, искушение уже не покидало меня, и в один прекрасный вечер я не смог против него устоять.
Как всякий большой стратег, я заранее разработал план операции. Я уже говорил, что узкий прямой коридор ведет из передней в ванную комнату. В ее открытую дверь виден умывальник, над которым склоняются взрослые, когда моют руки, выставляя при этом свой зад; зажатые в тесном пространстве между стеной и краем ванны, они при нападении сзади оказываются совершенно беззащитными. Притворяясь, что занят игрой, я с нетерпением жду, когда отец зайдет в эту ловушку и примет нужную позу. У меня наготове спрятан шприц с самой длинной и самой толстой иглой, потому что у отца, по моему разумению, кожа должна быть гораздо более твердой, чем у плюшевых зверей. Мне кажется, что, несмотря на свое героическое прошлое, отец плохо переносит боль: когда мать выдавливает у него прыщики на спине (эта операция доставляет ей огромное удовольствие), он стонет и вскрикивает. Вот он наклоняется над умывальником… И, как солдат, идущий в штыковую атаку — я видел таких солдат на картинках в «Панораме мировой войны», — я беру свое оружие наперевес и самозабвенно всаживаю иглу в отцовскую ягодицу. Раздается душераздирающий вопль, который подтверждает мою догадку: отец и в самом деле плохо переносит боль; он пятится назад, а я не могу сдержать безумного хохота. Смеюсь я, впрочем, недолго, дело тут же принимает самый плачевный для меня оборот. В этот вечер никто не встает на мою защиту. Приверженность к экспериментальному методу жестоко высмеяна, по-срамлена и наказана. Набор инструментов конфискован, и отец объявляет этот подарок дьявольским. Тот, кто меня им осчастливил, удостоен вместо «Спасителя» оскорбительной клички «Дырка в заднице».
Однако не мог же доктор отвечать за мои садистские наклонности. Вскоре он будет прощен, и я на долгие годы обречен оставаться по-прежнему пациентом обоих врачей — профессора Все-к-Лучшему и доктора Пелажи, один контролирует другого. Думаю, они взаимно нейтрализовали друг друга, потому что результаты получались неважные: я не выздоравливал. Два полководца в армии — значит, жди поражения, говорил отец. Вскоре после моего подвига оба соперника-целителя сделали мне сенсационную операцию, которая осталась в моей памяти одним из самых тяжелых воспоминаний. Возможно, я смещаю события, и операция произошла несколько позже, ибо представления о времени были у меня еще очень смутные, но эта ошибка большого значения не имеет.
Речь идет о моих миндалинах и аденоидах, которые, по мнению обоих господ, занимают слишком большое место в недрах моего горла и носа. Их паразитический рост является причиной моего затрудненного дыхания, поэтому их следует удалить; так дерево, если его подстричь, с новыми силами тянется к небу — думаю, эту метафору сочинил профессор Все-к-Лучшему, обожавший яркие образы. Предстоящее хирургическое вмешательство было коварно подано мне в самом радужном свете: мне только чуточку прочистят горло и нос, все произойдет мгновенно и почти без всякой боли, и мне сразу дадут очень много мороженого — столько порций, сколько я захочу. Поэтому я шел на это испытание без особой боязни, успокоенный к тому лее самим обликом хирурга, добродушного человека в не-опрятной одежде, настолько не стремящегося эффектно себя подать, что он немало шокировал маму, когда он, войдя в квартиру, сразу же по-простецки осведомился, где тут можно помочиться, а то ему совсем невтерпеж. Величественным жестом мама указала ему направление. Вернувшись, он громко объявил, что теперь ему здорово полегчало. При этих непринужденных манерах он оказался вдобавок на редкость рассеянным человеком, что для хирурга не самое лучше качество, он беспрестанно шарил у себя в карманах и в саквояже в поисках какого-нибудь инструмента. «Куда он мог запропаститься, черт меня подери! Уж не ты ли его у меня свистнул?» И это окончательно меня успокоило, тем более что мне не нужно было отправляться в операционную. Было договорено, что операция будет происходить у нас на кухне. Все это отдавало полевой хирургией.
В назначенный час меня, завернутого в простыню, сажают на колени к доктору Пелажи; я оказываюсь в привычной обстановке каждодневных гастрономических раздоров и ссор, а чудаковатый доктор садится на стул напротив меня, укрепляет у себя на лбу зеркальце о лампочкой и сразу становится похож на углекопа, который сейчас спустится в шахту. Потом он хватает какой-то неведомый мне аппарат, велит мне «как будто ты смеешься» пошире открыть рот, а маму просит выйти из кухни. На этом всякое сходство с увеселительной прогулкой кончается. Я доверчиво раскрываю рот, и тут же мои челюсти крепко схватывает зловещий аппарат, и толстые пальцы рассеянного добряка завертывают винт. Моим челюстям уже не закрыться, аппарат растягивает их, Пелажи держит меня мертвой хваткой. На этот раз в ловушку попал я. Вот уже во рту у меня щипцы, меня пронзает страшная боль. Кухня мгновенно превращается в бойню. Вытащив у меня изо рта свои варварские клещи, этот дикарь подставляет мне миску, и я извергаю в нее потоки крови и клочья мяса; это приводит меня в совершеннейший ужас. Вслед за клещами в нос мне запускается что-то вроде крючка; мне кажется, что он проникает мне в самый мозг; боль становится, если это возможно, еще страшнее. Я хриплю, я обливаюсь кровью, миска полна до краев, сейчас я умру в лапах палача-зубоскала и его приспешника. На этот раз все меня предали.
Пытка, я думаю, заняла недолгое время, но мне оно показалось вечностью, сквозь пелену слез я вижу, как все вокруг становится красным: миска, полная моей крови, простыня, салфетки, вцепившиеся в меня руки — всё в крови. Но, несмотря ни на что, сознания я не теряю и испытываю ярость при мысли о том, как гнусно меня обманули. Наконец отвратительная распорка выдернута у меня изо рта. Я выплевываю последние сгустки крови. Боль раздирает горло и нос, чудовищная резкая боль, как будто у меня сплошная рана. Вбегает мама, с искаженным от страха лицом хватает меня на руки и уносит из кухни. Я и на маму сильно обижен, но вот я вспоминаю, что мне обещано мороженое, и уже ищу ей оправдания. Наверно, она тоже была обманута добродушными повадками этого невоспитанного типа, и теперь мне зачтется за все мои муки… Эти тактические соображения мелькают у меня в голове, когда я в полуобморочном состоянии лежу в постели; боль понемногу становится не такой острой, меня охватывает безграничная усталость. Вскоре в самом деле появляется обещанное мороженое, потом в постель мне приносят принадлежащего кондитеру черного кота, и это немного примиряет меня с окружающим миром, который только что был таким жестоким ко мне.