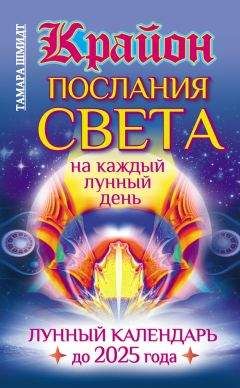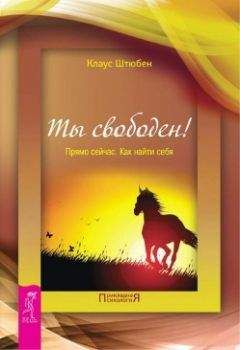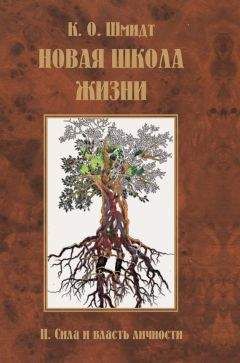Робер Андре - Дитя-зеркало
— О боже! — охнула тетя, когда я начал плакать перед полной ложкой майонеза, которую она совала мне в рот с видом печальным, но и решительным, точно священник, подносящий крест для поцелуя приговоренному к казни. Я понимал, что нахожусь в руках фанатиков и что моя тетка, женщина добрая, но подневольная, обливаясь слезами, из чувства долга подвергнет меня пытке. Короче, водя моя была сломлена, и со смертью в душе я дал влить себе в глотку целую ложку мягкого бархатистого вещества вместе с кусочком лангуста, а повернутые ко мне лица дружно осветились счастьем, будто на их глазах обратили в истинную веру целую толпу грешников.
— Ну, на здоровье! — вскричала тетя и облегченно вздохнула.
Мой победитель жевал…
Но эта блаженная разрядка продолжалась недолго: едва майонез коснулся моего нёба, как у меня вдруг начал разбухать язык, за ним губы. Дыхание мое пресеклось. Задыхаясь, с неудержимым позывом к рвоте, я кинулся из столовой и изверг из себя лангуста, майонез, остатки закуски; следом за мной выбежала тетя Зели, впервые в жизни поколебленная в своих принципах, ибо, оказавшись вне поля зрения своего повелителя, она осмелилась высказать вслух крамольную мысль:
— Я так и знала. Он заболел.
Я и в самом деле заболел. Словно торопясь Одержать мучительную победу над суровой мужской моралью, рвота и прочие симптомы расстройства желудка продолжались с удвоенной силой. Но еще больше меня испугало другое: язык и губы у меня оставались раздутыми,1 словно после пчелиного укуса, дыхание было по-прежнему затруднено, но задыхался я странно и необычно. Вдохнуть в себя воздух я еще мог, но выдохнуть его мне удавалось лишь ценой изнурительных усилий, сопровождавшихся грозным свистом в бронхах. Каждую секунду дыхание мое пресекалось, и, чтобы восстановить его, я вынужден был тяжко трудиться, трудиться изо всех сил, мучительно и тщетно, как рыба, выброшенная на песок. Такой приступ был у меня впервые, я решил, что умираю, па сей раз по-настоящему, вдали от спасительных материнских вдуваний, на глазах дядиного перепуганного семейства, умираю жертвой садиста-дяди, который слишком уж хорошо исполнял партию Мефистофеля в опере Гуно.
Но я не должен был умереть… После бесконечных часов тошноты и удушья я смог наконец овладеть своим дыханием, но с тех пор на всю жизнь остался у меня ужас перед этой нежной и пикантной массой с ее дьявольской алхимией, превращающей самые безобидные яйца и масло в адскую смесь. Мой мучитель сломил мою волю, но вскоре я был отомщен, о чем, несмотря ни на что, горько сожалею. Недолгое время спустя после этого происшествия дядюшка умер.
Мне не суждено было больше никогда увидеть ни сложенную из песчаника виллу, ни удивительную синеву белья, ни грозного человека, давшего первый толчок странной болезни, об упорстве и цепкости которой тогда еще никто не догадывался.
Мое тело сверху донизу терзают врачи, а я из засады нападаю на отца. Недавно, проходя по мосту Искусств в сторону Французской академии, я оказался свидетелем зрелища, которое завораживало меня в детстве: в парадных мундирах шел на рысях конный отряд республиканской гвардии, цокали копыта, в саблях и в синеватых гребнях касок отражалось затянутое дымкой неяркое предвесеннее солнце — шла кавалерия со старой гравюры, словно призрак армии прежних времен, о которой я столько слышал от покойных родителей. Ветер донес до меня терпкий конский запах, и перед моими глазами вдруг приоткрылось далекое прошлое, но я увидел в нем не картинки войны из старых журналов, а те далекие, очень далекие и не привязанные ни к какому конкретному времени приступы удушья, так мучительно терзавшие меня в детстве. Конский запах? Обвиняя его в этом, я, должно быть, так же несправедлив, как и по отношению к своему дядюшке-тезке.
Мои бронхи и в самом деле выказывали все большую чувствительность к запахам, они становились, если можно так выразиться, все более недоверчивы и подозрительны, поскольку я больше всего на свете боялся приступов прогрессирующего удушья, которые, казалось, неумолимо вели меня к полной остановке дыхания. В то время я еще очень мало знал свою болезнь, да и домашние мои тоже терялись в догадках. Я осмеливаюсь предположить, что только это всеобщее неведение явилось причиной одного предательского покушения, жертвой которого стали части моего тела, о которых я имел до этого лишь самое смутное понятие.
Как я уже говорил, в туманную пору дома в глубине двора, когда я уже направлялся к преддверию рая, меня Перед самой кончиной перехватил живший в нашем квартале доктор, приверженец метода «изо рта в рот». И вот этот доктор снова появился на сцене, но теперешнее его поведение сразу развеяло тот ореол, которым было окружено его имя после его изначального подвига. Вместо того чтобы интересоваться моими легкими, он вопреки всякой логике проявил неумеренное любопытство к работе моих мочеиспускательных органов; он их осматривал и ощупывал с таким видом, словно самый факт наличия некоего отростка в этом закоулке моей персоны представлялся ему отклонением от нормы. Потом он прекратил меня ощупывать, увлек мать в глубину гостиной, и они стали о чем-то шептаться. Я уже счел себя свободным и бродил по коридору в поисках какой-нибудь игрушки, когда вдруг услышал, что меня зовут.
Я приближался к доктору без всяких опасений, потому что этот верзила сидел в кресле, улыбаясь во весь рот и широко раскинув руки, будто собирался заключить меня в объятия. Едва я оказался в пределах его досягаемости, его руки плотно сомкнулись на мне, а мои ноги тут же были крепко зажаты его ногами! Больше того, мать оказалась соучастницей заговора. Она тоже обхватила меня крепко сзади, руки у доктора освободились, и он снова стал шарить в моих пижамных штанах, чтоб" ы вытащить на белый свет мое нехитрое приспособление, которое, казалось, его просто заворожило.
Я даже не успел толком сообразить, что происходит. Словно в припадке ярости против того, что казалось ему противоестественным и ужасным, он вцепился в этот мой орган, с силой оттягивая на нем кожу. Меня пронзает острая боль, я кричу, я корчусь у него в руках, но этот предатель уже выпускает меня, он явно доволен тем, как ловко меня провел.
— Вот и все! Теперь твоим хворям конец! — восклицает он, точно фокусник, исполнивший трудный номер.
Я с плачем бегу прочь, мне стыдно, мне обидно и больно, я злюсь на то, что дал себя так провести, злюсь на обоих заговорщиков. Как могла мама быть против меня заодно с этими злыми и извращенными людьми — с докторами? Я долго разглядываю подвергшееся пытке место, я хочу убедиться, что у меня все в целости и сохранности. То, что произошло, кажется мне нелепым и диким. Из испытания я выхожу обогащенный новым опытом, отныне я твердо знаю, что эту часть тела следует оберегать от чужих хищных рук. Кроме того, во мне пробуждается стыдливость.
Теперь я уже не смогу раздеваться при посторонних и не буду разглядывать в зеркале шкафа свое отражение, как это делает по утрам, одеваясь, отец, я буду стараться прикрыть свое голое тело и в глубине души буду теперь осуждать беззаботность, с какой раздеваются при мне другие. Так благодаря все тому же чудо-доктору я обнаружил собственную наготу, но все же мне больше повезло, чем Адаму: дело обошлось без первородного греха…
Это предательство не имело последствий, но контакты с медицинским сословием не прекращались, поскольку моя болезнь задавала врачам загадки, так же как и отсутствие у меня жизненной энергии. Я был, как говорили, слишком замкнут в себе, не искал общества других детей, но с кем мне было играть? Своего двойника я терпел только на расстоянии, лишь когда видел его в проеме окна в глубине двора. Меня выводили теперь из дому с бесконечными предосторожностями, после самой придирчивой проверки метеорологических данных, так что с начала зимы я уже совсем не казал носа на улицу, но мать от этого не слишком страдала, она компенсировала это увеличением числа домашних чаепитий, да и я тоже не очень страдал. Другие дети были мне не нужны — то ли по причине моего раннего самоуглубления, то ли оттого, что положение единственного ребенка в семье приучило меня быть всегда в компании взрослых.
В эти первые годы я буду встречаться с одним только мальчиком, который живет на шестом этаже. Поскольку никаких досадных совпадений в днях рождения у пас не существует, наши семьи наносят друг другу визиты. У нас с ним нет никаких общих интересов, кроме, пожалуй, игрушек, но его игрушки более разнообразны и поучительны, чем мои, из-за того, наверно, что его отец, архитектор, не гнушается участвовать в играх сына и даже получает от них удовольствие. Мне же такие отношения отца и сына кажутся ненормальными. Кроме того, этот мальчик слишком уж аккуратен и старателен, он любит все расставлять по местам, собирает всякие коллекции, а у меня нет вкуса ни к каким новинкам и новшествам. Его великолепным оловянным солдатикам я предпочитаю подаренных мне бабушками ветеранов 1870 года, облупившихся и безруких. Я, конечно, в чем-то уступаю Жаку, но у меня есть перед ним и ряд преимуществ. Когда я спрашиваю у него, кричат ли его родители за обедом, бьет ли мсье Мадлен тарелки и трубит ли по вечерам в горн, Жак сразу замолкает, а я горделиво выпячиваю грудь.