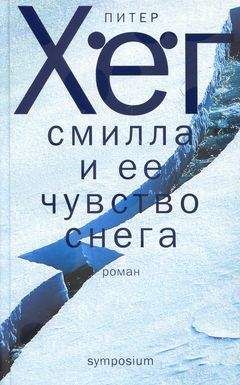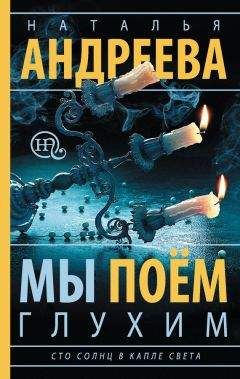Дуглас Кеннеди - Покидая мир
— А я собираюсь провести ближайшие месяцы в Берлине.
— Везет вам. Когда летите?
— Вообще-то уже завтра.
— Рад это слышать, а то тут пресса уже измышляет небылицы насчет спасшей Айви «бдительной одиночки — врага преступности». Так вас, кстати, назвали в «Калгари сан», этом бульварном листке. Журналисты очень сильно нас допекают за то, что мы отказываемся назвать ваше имя. Мы стоим на своем, объясняем, что с уважением относимся к вашему требованию, но давление с их стороны все растет. Так что… да, уехать прямо завтра — отличная идея. А чтобы уж наверняка гарантировать вам безопасный отъезд, давайте-ка я сам заеду за вами завтра в двенадцать часов, отвезу домой, чтобы вы сложили вещи, а к трем часам подброшу в аэропорт, как раз успеете на пятичасовой рейс.
— Как вы узнали, когда вылет на Франкфурт?
— Очень просто — посмотрел в Интернете, пока говорил с вами.
Снова прекрасный, крепкий сон на всю ночь. Снова выход из отеля украдкой, через черный ход, только на сей раз за рулем был сам сержант Кларк. Он привез меня домой и объявил, что на сборы у меня полчаса. Такое ограничение во времени заставило меня собраться за несколько минут, впрочем одежды и прочих пожитков у меня здесь было мало. Все платежи — за квартиру, коммунальные услуги, мобильную связь — осуществлялись напрямую с моего банковского счета. Мое жалованье исправно поступало на счет — по крайней мере, пока. Мобильный телефон я собиралась отключить. Мой личный адрес электронной почты не был известен никому, кроме управляющего банка в Бостоне, а рабочим адресом, который я использовала в библиотеке, в мое отсутствие никто не сможет пользоваться. Я снова могла бесследно исчезнуть…
Безусловно, того же добивался и Кларк. В аэропорту он провел меня прямо в особый отсек терминала, где я одна прошла регистрацию на рейс и досмотр, после чего сотрудник аэропорта проводил меня в небольшую комнатку, где я должна была дожидаться посадки. Там имелся бар-холодильник, и Кларк — он все время был рядом, пока я проходила эти необходимые процедуры, — открыв его, спросил:
— Можно, я куплю вам пива?
Он вернулся к дивану и протянул мне бутылку «Лабатт».
— Все эти предосторожности действительно так необходимы? — спросила я.
— Может, и нет, но сегодня в двенадцать дня «Калгари сан» пообещала десять тысяч долларов в награду любому, кто назовет имя «бдительной одиночки», так стоит ли рисковать? В любом случае, мне кажется, вы заслуживаете шикарных проводов, а я хочу знать наверняка, что вы спокойно выбрались из города… — Он чокнулся своей бутылкой с моей. — Как чувствуете себя, профессор?
— Уставшей, несмотря на две ночи в прекрасном отеле.
— Ничего странного, вся эта история еще не раз вас заставит попереживать. В два счета такое не забудешь.
— Я это запомню навсегда.
— И все же, когда мрачные воспоминания навалятся, вы вспоминайте эту старую фразу: если ты спас одну жизнь, значит, спас весь мир.
— Сержант, все это чушь собачья, сами знаете.
Это его, кажется, слегка удивило, но через мгновение он пожал плечами и отпил пива из своей бутылки:
— Ну вот, а я-то старался быть мудрым.
— Приберегите это для следующей «бдительной одиночки».
— А может, я вернусь к этой теме, когда вы возвратитесь… если, конечно, вы не против снова меня слушать.
— Все возможно, кто знает, — улыбнулась я.
Но я-то знала точно — в Калгари я больше не вернусь.
Кларк, однако, не ошибся — на меня действительно снова навалилась тоска. Это случилось через несколько ночей после моего приземления в Берлине. Я остановилась в дешевой гостинице возле Митте и еще не пришла в себя после смены часовых поясов. В этом незнакомом, пасмурном городе, с его неподвластной мне Sprache,[114] я чувствовала гнетущее одиночество. На третьи сутки я проснулась среди ночи, в четыре часа, и вдруг это началось. Перед глазами возникли перерезанная шея Корсена, его одежда, насквозь мокрая от крови, и глаза, остекленевшие, но отражавшие весь ужас его последних минут. Он был омерзительным монстром — я боялась даже задумываться, как он мог стать таким, как мог творить чудовищное зло и одновременно изо дня в день совершать богослужения, призывать людей к добру и любви, лицемерно изображать благочестие и праведность, слушать свои мотивационные записи. В ту берлинскую ночь, в четыре часа, когда все мои мысли заняли эти мрачные воспоминания, я думала только об одном: Эта картина до конца жизни не изгладится у меня из памяти.
На другой день погода исправилась, выглянуло солнце, и я решила пройтись, прогнать из головы ночные фантомы по время долгой прогулки по Унтер-ден-Линден. У Бранденбургских ворот я свернула налево и попала в странное место — примерно два акра серых каменных плит. Как выяснилось, это был Мемориал холокоста. Странное это было ощущение — бродить там среди плит, уложенных, точно саркофаги на кладбище. Чем дальше углубляешься в это подобие лабиринта, тем сильнее оно тебя затягивает. Сделав пятнадцать шагов к его эпицентру, чувствуешь себя заживо погребенным на этом пространстве — одна серая глыба за другой, полностью закрывающие собой весь обзор, все небо и все окрестности, и уничтожающие веру в то, что на свете существует хоть что-то, помимо этой нескончаемой череды каменных плит, готовых похоронить тебя под собой.
Он ошеломлял, этот мемориал. Он кричал обо всем, не пытаясь ничего рассказать. Его автор понимал, что скорбь — неважно, коллективная или индивидуальная — становится гробницей. И как погребенному заживо выбраться из могилы?
Я не представляла как. Но тем не менее проделывала эту работу, проживала день за днем.
В Берлине все стало налаживаться, когда я открыла для себя Пренцлауэр-Берг — реконструированный квартал неподалеку от Митте, место, вдохновлявшее бюргеров девятнадцатого века, ныне модернизированное и довольно примечательное для этого некогда поделенного надвое города. Пренцлауэр-Берг облюбовали для себя молодые семьи, и для меня это было нелегко. Но на доске объявлений в чудесной англоязычной книжной лавке «Сент-Джордж» я прочитала, что сдается однокомнатная квартира-студия, и нанесла туда визит. Квартирка оказалась крохотной, всего пятнадцать квадратных метров жилого пространства, зато располагалась рядом с Кольвитц-плац — лучшее место в районе — и к тому же была со вкусом обставлена простой мебелью из светлого дерева. Хозяин согласился сдать ее мне на три месяца с возможностью продления аренды. Мне даже не пришлось покупать ничего, кроме постельного белья. Я записалась на курсы интенсивного изучения языка в Гёте-институте.[115] По шесть часов в день корпела над умлаутами и дательным падежом — и познакомилась с молчаливым шведом-художником по имени Йоханн. Он получил грант и приехал в Берлин изучать язык и заниматься живописью. К моему немалому удивлению, между нами начался флирт: не слишком серьезный (он рассказал, что дома у него осталась девушка) и, к взаимному удовольствию, не выходящий за определенные рамки. Два-три вечера в неделю мы куда-нибудь ходили вместе. Покупали дешевые билеты в Берлинскую филармонию или Комише-опер. Посещали джазовые клубы с бесплатным входом. Смотрели кино в симпатичном маленьком кинотеатрике на улочке за Хакешер Маркт. А потом проводили ночь в моей раскладной, но при этом двуспальной, кровати.
Поначалу это казалось странным, почти невозможным — вновь приобщиться к этой сфере, называемой физической близостью. Когда Йоханн проявил инициативу, первой моей реакцией было удрать. Но, к счастью, я не выдала себя, и на смену этому намерению пришло другое, куда более простое чувство: я хотела снова заняться сексом.
Йоханн вел себя сдержанно, был нежен и слегка отстранен, что, сказать по правде, меня вполне устраивало. Мне были приятны его объятия и нравилось заниматься с ним любовью. Мы редко говорили о вещах, для нас значимых, тем не менее я услышала рассказы о его авторитарном аристократичном отце, мечтавшем, чтобы сын стал работать в семейной юридической фирме, но тем не менее частично финансировавшем его попытки на поприще абстрактной живописи. На самом деле у парня был талант, и его акварельные этюды в стиле Элсворта Келли показались мне многообещающими. Но, как он сам признавался, в его распоряжении было как раз столько денег, чтобы его развратить, и он предпочел слоняться по барам и кафе и напиваться, вместо того чтобы всерьез заниматься делом и совершенствоваться в науках. Йоханн почти никогда не просил меня рассказать о себе, а когда заметил как-то в самом начале, что я постоянно грущу, я только пожала плечами и сказала:
— У всех у нас свои заботы.
Свои заботы я не желала обсуждать ни с кем.
Точно так же, как старалась держаться подальше от прессы — хватило того, что через неделю после приезда в Берлин я проходила мимо стойки с газетами и увидала на первой странице какого-то дешевого таблоида расплывчатую фотографию Корсена с подписью: Das Monstrum der Rockies![116] Впоследствии я всякий раз отводила глаза, минуя подобные киоски.