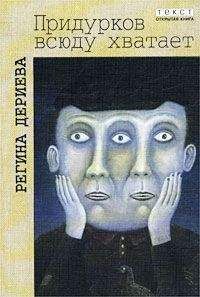Алина Литинская - Эхо шагов
А вот эти строки из отцовского письма, где речь о довоенном Рахлине и «Франческе». Так что зря Вы сердитесь, Натан Григорьевич.
— Леня, — обращается он к моему сыну, — можно у кого-нибудь из соседей раздобыть гитару?
Для меня это неожиданность. То, что Рахлин играет на оркестровых инструментах — известно (особенно хорошо на медных духовых, сказывается школа военного оркестра). То, что, по его же признанию, любой инструмент (кроме фортепиано!) ему доступен — тоже знали. То, как однажды, в юности, вышел из аварийного положения тем, что срочно раздобыл баян и исполнил перед конкурсной комиссией Тему с вариациями из Седьмой симфонии Бетховена — знали от него же.
Но гитара!?
Через минуту мы перестали понимать, что происходит. Ни до, ни после ничего подобного мы не слышали.
Это не было произведением с началом и концом, это была импровизация без обозначенной мелодии (лишь иногда казалось, что где-то возникают очертания танцев Гранадоса), это была прихотливая игра динамики звука и ритма, а звук возникал откуда-то из глубины инструмента, но сейчас Натан приник, припал ухом к грифу, а гитару прижал к себе, и все ради этого удивительного звука, который и гитарным назвать — сильное преуменьшение.
Натан улыбается: — Ты впервые слышишь?
Он взял несколько аккордов и начал рассказывать, что…
…Что когда приезжал Сеговия (Сеговия! Первый в мире гитарист, легендарный испанец), так вот, когда приезжал Сеговия, мы встретились, и я ему играл. Знаешь, что он сказал? Что он не будет играть там, где играл Рахлин. Потому что Рахлин это делает лучше.
Я не буду рассуждать «было — не было», это не имеет значения. Я памятую отцовское письмо и понимаю: что бы он ни говорил, он говорит правду. И если Сеговия еще этого не говорил, то непременно скажет. Хоть давно уж его нет. Их нет.
Натан Григорьевич отложил дешевенькую соседскую гитару, похлопав ее по дереву, — спасибо, мол, не подвела, — поднялся и сказал:
— А теперь поджарь мне картошку. Вон в той большой сковородке. Только не говори моим домашним.
Прошло много лет. Киевский Оперный театр. Торжественный концерт. Прекрасный дирижер. Шестая симфония Чайковского.
В антракте бывшая консерваторская однокурсница находит меня, и мы буквально в один голос говорим:
— Хорошо играют. Но мы траченные люди. Мы слушали Шестую в исполнении Рахлина. Всё. Никого кроме.
МиВ
Всего на свете двое есть — совесть да смерть.
Русская пословицаМашина затормозила у входа в корпус, из нее вышел человек и, оглядевшись, направился к крыльцу.
Проходя мимо, бросил: «Где Нина?», словно весь мир должен быть готов к ответу.
Я поняла, кто это: Миша Вайнштейн. С его женой Ниной и детьми — их двое — мы живем в тесном соседстве, дверь к двери, вот уже целый месяц здесь, в Седневе, в Доме творчества, что под Черниговом.
И сегодняшнее утро началось с волнений «приедет — не приедет?» и вот, значит, появился.
— Где Нина?
И сделал шаг ко мне.
— Ты прости… Мы ведь знакомы?
Мы никогда не виделись прежде, но это ничего. Дескать, ждали приезда и все такое… Здравствуйте.
И в этот момент на балконе первого этажа замаячила голова моего сына. Миша решительно направился к нему и совершенно неожиданно положил ладонь на его лоб. Я хорошо запомнила это движение, удивившее меня движение человека — неважно кто он, мужчина или женщина, — привыкшего опекать.
Потом много раз я буду видеть — замечать это движение среди Мишиных жестов и всякий раз заново удивляться тому, как естественно гнездится оно в Мишиной пластике, руке, в самом Мише.
— У него температура!
Температура — не то слово. Ленька был простужен, как первый простуженный человек на земле. И лежал он под одеялами, напоенный чаями из седневских трав, которыми пропахла вся комната (через годы сын признается, что этот запах он уже терпеть не мог), и так не хотелось увозить его отсюда, из этой благодати, в жаркую городскую пыль, а на балкон он выскочил, потому что «я не виноват, я машину услышал…».
— И не вздумай увозить его отсюда, — говорит Миша. Как будто я давно уже обсуждаю с ним это «увозить — не увозить». — Здесь воздух лечит. Место благодатное, не даром художники этот дом отгрохали. А доктора хорошего найдем.
И слух стал свидетелем: не «найдешь», не «найдется» (сам), а «найдем».
А «дом отгрохали» — это вместо слов «Дом творчества». Слово «творчество» он употреблял редко и чаще всего на бумаге. Например, в заявлении на путевку:
«Прошу… в Дом творчества».
Или в хлопотах «это ему… для творчества».
А о себе он таких слов не говорил и вообще старался как можно проще высказываться:
— Я тут накрасил что-то…
И отворачивал от стены холст, перед которым становилось неловко за свою незрячесть.
Жил в нем стыд перед словами.
Помнится и такая сцена. Но случилась она много позднее, и чтобы снова увидеть ее, я должна передвинуть свою память во времени на несколько лет вперед.
Все тот же Седнев. Закат. Скамейка. Рядом с Мишей пожилая дама — художница. Разговор спокойный, предвечерний, и тихая музыка, как в кино, из окон доносится.
По своей привычке Миша разговаривает и рисует одновременно — блокнот и шариковая ручка всегда при нем. Короткие взгляды на собеседницу, мгновенный прищур, чуть откинутая голова, чтобы изменить угол зрения — обычная беседа, обычная работа, привычные движения… Набросок готов.
Миша вырывает листок из блокнота, подписывает — МиВ — ставит дату — июль 1980 г. — и протягивает собеседнице.
Та принимает рисунок, удовлетворенно улыбается и кивает — (замечательный портрет) — а затем говорит Мише:
— Пусть рисунок будет у вас. Когда я умру, отдадите его моей дочке.
Пауза измерялась секундами. Что? Что скажет?
«Ах, чтовычтовычтовычтовы?» Или что угодно, чтобы унять неловкость сцены (дама и впрямь была раза в полтора старше). А Миша скажет:
— Хорошо.
И вложит рисунок назад в блокнот. И встанет, подавая собеседнице руку:
— Пора к ужину.
Через год мы разыщем пожилую художницу и вручим ей рисунок.
Так и лежал он в блокноте, в ящике комода, что стоит под полкой в Мишиной мастерской. Но самого Миши там уже не было.
Мы знакомы давно, уже две минуты, но только теперь я вижу, как напряжены его глаза, да и весь он.
Миша огляделся, сел на скамейку, выпрямил затекшие ноги… Хорошо.
Что-то начинает медленно-медленно, постепенно-постепенно отходить в нем, словно поводья внутри ослабевают: вздохнул, как если бы отпустило удушье.
— Благодать. Конечно, хотелось бы побыть здесь день-другой, поработать. Никак нельзя. Работы начаты, надо до ума доводить. Двадцать первого выставком. Ты ведь не была у меня в мастерской? (Конечно, нет, по причине незнакомства). Приехал путевки продлить, всего на один день. Пусть Нинка с детьми здесь сидят, нечего им в городе делать. Жара, духота. В мастерской? Нет, в мастерской ничего, жить можно.
А он там и жил. С утра до вечера. Потом, если работы много, с вечера до утра. А потом снова до вечера. И так неделями.
Вес воздуха удвоен-утроен запахом красок и растворителя, этаж высокий, за окном крыши, что пышут жаром, словно печки.
Но жить можно, а главное, нужно.
Работы полно.
Холсты-холсты вдоль и поперек стен, торцом и плашмя. Миша отворачивает работу, дает посмотреть минуту-другую и ставит на место, краской к стене. Без комментариев.
Портреты, натюрморты, пейзажи, портреты… Снова портреты. Галерея лиц. Такое впечатление, что начинает что-то происходить со зрением. Словно убрали что-то, что мешало видеть не предмет, а его суть. Конечно формой, конечно цветом, конечно фактурой — густые мазки создают почти рельефный объем — но это не все, чем достигается эффект проникновения.
И тогда пытаешься скорректировать свое зрение по Мишиному и видишь, что вот этот удивительный, нарядный, торжественный в цвете и такой емкий, хоть и небольшого размера натюрморт (я потом ловила себя на том, что представляла его себе много-много больше) есть не что иное, как мусорное ведро с выброшенными цветами, флаконами и прочим сором из мастерской («Красота, она — всюду», — сказал бы кто-нибудь, но не Миша, из-за очевидности факта);
и жаркая гамма в натюрмортах желто-оранжевых тонов — «признание не шепотом, а в голос» — любовь его к каждой клетке этой жизни;
и серо-голубое прозрачно-утреннее освещение;
и полевые цветы в стекле;
и солнечные пятна на полу открытого балкона;
и беззащитность затылка и ладоней спящего ребенка — во всем этом такое живое, пульсирующее чувство жизни.