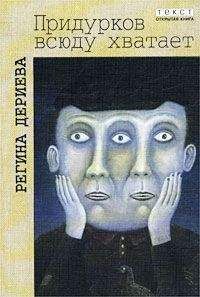Алина Литинская - Эхо шагов

Обзор книги Алина Литинская - Эхо шагов
Алина Литинская
Эхо шагов
Довоенная графика художника Ибрагима Литинского
Мой отец — Ибрагим Литинский (1908–1958) — известный украинский художник.
Еще до войны его работы привлекли внимание классика русской живописи Михаила Нестерова, и между художниками завязалась переписка (сейчас письма Нестерова к отцу хранятся в ЦГАМЛИ Украины). Имя отца упоминается и в официальных справочниках Украины.
Однако судьба художника сложилась так, что работы двух важных периодов жизни были утрачены. Довоенные работы, хранящиеся в доме, исчезли во время оккупации Киева 1941–1943 годов. А те, что созданы в эвакуации и отправлены прямо с выставки из Ташкента в Киев, затерялись в неразберихе почтовых пересылок военных лет. Среди утерянного была картина, которую отец считал главной в своей жизни: она посвящена его матери.
Тем ценнее крупицы уцелевшего.
Особенно дорога мне избранная графика довоенных лет, выжившая Бог весть каким образом. Может быть, была взята с собой в эвакуацию? Может, где-то в доме нашла укрытие? Не знаю.
Мимолетные карандашные реплики-наброски и вполне законченные графические портреты — все это лица родных мне людей. И в каждой работе я вижу не только их, но и отца, его мастерство, его руку и глаз, а главное — мир его чувств и отношений. И будоражат они память и не дают покоя.
Особенно память о тех, кто не пережил 41-й год.
Дорогие мои близкие,
серые мои одуванчики…
(Из разговора)
Воскресенье
И не день и не вечер, не рассвет и не сумерки, и освещение странное и ниоткуда, и время повисло и висит в этой застывшей картине, и состояние это не меняется и измениться не может, а может лишь прерваться.
Оно и прерывается глухим ударом о землю.
Я открываю глаза, пытаюсь понять что-то, но ничего не понимаю, поворачиваюсь на другой бок и тотчас засыпаю снова.
Во сне продолжаю слышать звук ударов, и мне представляется зал на первом этаже соседнего дома, где сквозь открытые окна видно, как люди в ненормально больших перчатках изо всех сил лупят по резиновой груше, а та, словно дразнится, упрямо возвращается на прежнее место. Люди что-то яростно выкрикивают, а груша глухо стонет.
Я не удивляюсь людям с кожаными кулаками в моем сне и тому, что они там делают — я не знаю, есть ли в снах место удивлению — но что-то внезапно выталкивает меня на поверхность, в реальность бабушкиного голоса:
— Воскресенье… Маневры… Тревожат людей… Чуть свет…
Я сплю? Вроде, нет. Чуть свет. Рассвет. Что дрожит на потолке? Ах да, это от медной люстры. Я смотрю, как пятно прыгает и добирается до стены и думаю, что оно притворяется, что ему весело. Почему? — не знаю. Я люблю наблюдать за ночными играми отблесков предметов бабушкиной комнаты. Я забываю, что днем это называется самоваром, или зеркалом, или круглой шишечкой от никелированной кровати, и смотрю, как они, не сдвигаясь с места, подрагивают. Сегодня отблеск люстры скачет не так, как обычно…
…Меня каждую субботу привозят сюда, к маминым родителям и оставляют на ночь. И я жду этого, как праздника. Только здесь паркет отражает, как в зеркале воды, ножки кресел; только здесь постоянный устойчивый запах отутюженного белья; только здесь терраса, под которой стелется море зелени, а за ней — Подол, а вдали — Днепр. И нигде больше не будет такого душистого земляничного варенья к воскресному чаю. А чаепитие летом на балконе, а вокруг балкона — ничего, кроме неба и птиц, и он парит, парит над городом…
— Спи, дитя, спи — убаюкивает голос бабушки и снова сетует на маневры и на «чуть свет».
Но все это тонет в блаженном предрассветном сне и желании спать еще и еще, ибо только в детстве снится, что спать хочется.
Улица… Улица. Все, как было, все, как есть. Дома, деревья. Стул под каштаном, где всегда сидит старик-сосед. Все на месте, но улица пуста. Она так пуста, что, кажется, ее населяет только пустота и одиночество. И я бегу. Что гонит меня — не знаю. Чего боюсь — тоже не знаю.
Страх, безумный страх и удары чего-то о земной шар. И я укрываюсь в углублении какой-то подворотни, спиной врастаю в чугунные ворота и слышу, как глухие удары перерастают в ритм марширующих сапог по булыжной мостовой. Ближе, ближе… А улица остается пустой. Что марширует в моем сне?
— Ты меня слышишь? — говорит бабушкин голос. — Вставай.
Я поднимаю глаза. Часы. Они висели здесь всегда, но сейчас они без цифр, и стрелки вздрагивают от ударов. Или оттого, что заблудились в пустом белом пространстве?
— Ты меня слышишь? Просыпайся же!
Я открыла глаза и увидела родителей. Зачем они пришли так рано?
Я понимаю, что что-то случилось, и поскорее снова закрываю глаза.
Потому что ничего не хочу знать, ничего не хочу слышать. Здесь, на самом верхнем этаже, как в гнезде на высоком дереве, в самом надежном и защищенном в мире месте, не хочу слышать ничего плохого об этой жизни.
Зачем они пришли так рано?
Мы еще не пили чай.
Мне еще не дочитали историю о Кае и Герде.
И, вообще, вот-вот пойдет дождь, небо низкое-низкое и цвета моего сна — темное в лиловых разводах, и радио, пожалуйста, не включайте, еще хотя бы пару минут.
А папа скажет: Подол дымится.
А бабушка скажет: Война…
Сабина
С годами я вижу их все отчетливее. Прежде я сказала бы «как странно». Теперь же это не кажется ни странным, ни мистическим. Я знаю, что время поднимает что-то из памяти, из самых глубинных ее слоев, и помещает в верхний слой моего сознания. И всплывают мельчайшие подробности бытия — звуки шагов, запахи, мимолетные интонации, — не замечаемые тогда, в потоке других впечатлений детства. Может быть, это усиливается и тем, что еще дремлет в молодые годы: болью. Болью за этих людей и постоянно возрастающим чувством вины перед ними.
Помню бабушку. Из всех моих бабушек ее одну я называла так. Всех остальных — по имени: так было принято в семье. Но на самом деле она была не бабушкой, а прабабушкой. Звали ее Сабина. Бабушка Сабина.
— Бабушка, а где ты была, когда была маленькой?
— В Палестине.
Сабина-Палестина, Сабина-Палестина.
Слова похожие, слова сходятся.
— Что ты говоришь, майн кинд?
Она спрашивает, не поднимая головы. — Где Палестина? О, это так далеко…
— А чем ты ехала? Трамваем?
Она пожимает плечами. То ли не расслышала, то ли неохота пускаться в долгие объяснения. Она иногда жестом заменяет разговор. Так, видно, проще.
Живут они в маленькой комнате с моим прадедом Давидом. Разговаривают друг с другом редко — по крайней мере, мне не запомнилось их общение. Дедушка все время молится, и если открыть дверь в комнату во время его молитвы, он жестом показывает, чтобы ему не мешали.
В комнате есть толстые книги с незнакомыми мне буквами, но их читает только дедушка. Я не помню бабушку с книгой. Вижу с ножницами и иголкой. Она вырезает из своих и дедушкиных старых рубашек квадраты и обшивает края — носовые платки. И мне кажется, что все они похожи на бабушку и вырезаются из одной рубашки: тоненькие, почти прозрачные, в мелкие, как крупа, черные точечки.
У бабушки темные волосы с редкими пролесками седины, голова чаще всего наклонена над шитьем. И только однажды — в памяти это осталось вспышкой неожиданного движения — она резко вскинула голову, вытянула шею и выкрикнула куда-то в сторону:
«Закрыть ворота на замок!
Ловить этих негодяев!
Страшна будет моя месть».
В комнате находился соседский мальчик Рома. Он большой, ему лет десять-двенадцать. И сколько же времени пройдет, пока я узнаю, что рассказывала она ему в тот раз о «Разбойниках» Шиллера.
А сколько лет было бабушке? Не знаю. И спросить не у кого. Бабушка — и все. Моему отцу было уже лет тридцать, наверное, а он был ей внуком. Впрочем, не в возрасте дело, а в количестве шагов, проделанных по дорогам.
Так вот, сегодня мне эти слова кажутся предостережением. Впрочем, какие слова того, предвоенного, времени не покажутся нам сегодня предостережением?
— Бабушка, а как ты поехала в Вену?
Это знала даже я. Были в комнате два предмета под общим названием «Это еще из Вены»: овальный столик на гнутых ножках и тяжеленный, вычурной формы, чугунный треножник для цветов. И если столик хоть как-то был задействован в скромной обстановке комнаты, то треножник был сущим бедствием: о него спотыкались, ушибались и без конца переставляли с мета на место. Время от времени кто-нибудь выносил его в коридор и ставил у стены, но вскоре дверь приоткрывалась, и чья-то неведомая рука водворяла злосчастный треножник на прежнее место решительно, словно ставя точку. Бабушка что-то беззвучно шептала одними губами и обреченно кивала головой: дескать, так и знала, никуда не деться от этой помехи.