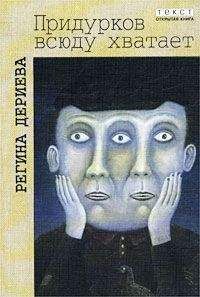Алина Литинская - Эхо шагов
Все. На этом ее рассказ обрывался всякий раз. Она не сказала, что увидела, а чего не увидела, когда вошла в комнату. Не сказала, потому что, верно, ее и не спрашивали. Что было делать с этим знанием? Мстить? Кому? Всему миру? Войне? И продолжала я играть с соседскими детьми, повзрослевшими, как и я, за годы войны, все в той же коммунальной квартире. Но игры уже были не те — время их прошло. Да и в смутных наших коридорах что-то повисло, словно материализовалось из детских страхов и предчувствий, не давая ни радости, ни смеха.
И особенно тяжело было встречаться в коридоре с пожилым соседом, самым тихим, что в гастрономе продавцом работает, который и так-то ростом невелик, а, видя меня, буквально складывался вдвое, уступал дорогу и говорил: «Проходите, дорогусечка», хотя ни одному человеку в мире не пришло бы в голову обращаться ко мне на «Вы» в то время. И почему-то руки складывал сосед за спиной, вроде, чтобы места много не занимать. И голова в вечном диагональном наклоне, глаз не видно. Мне было невыносимо жаль этого человека, и я малодушно улыбалась, чтобы поскорее куда-нибудь деться, хоть сквозь землю провалиться. Это он говорил: «Дедушка молился весь день, а вечером я зашел в его комнату, чтобы проверить затемнение на окнах. Смотрю, а он мертвый. Дедушка был сильно верующий, вот его Бог и прибрал в Судный День».
В комнате соседа оказался наш рояль, на который ему была выдана квитанция оккупационных властей. Отец купил рояль во второй раз.
Но я не хочу об этом думать. Спасибо судьбе, что он — хотя бы он — вернулся. И простоял он в доме еще 60 лет, послужив следующим трем поколениям. А о соседе и размышлять не буду.
И только Лукерья, с навсегда печальными глазами, не дождавшаяся своего Степана с фронта, потерявшая ребенка в эпидемиях и нехватках войны, не изуродовала ни души своей, ни совести и говорила о тех, кого проводила, не опуская глаз и не лукавя, называя их, как живых, по именам, не заменяя их местоимениями.
«Дытыно, и стоыш ты, и ходыш чисто як бабушка Фрида, и чай мени зробыла, дай тоби Боже здоровья, як вона — солодкий такий…»
С тех пор я думаю, что сладкий чай — от любви.
Дети сердятся.
Мой отец — художник Ибрагим Литинский
Мы были музыкой во льду…
Борис ПастернакРазбирая отцовские записи — сотни разрозненных листов и листочков, — все больше смирялась с мыслью, что лежать им и лежать, и ждать своего часа. Хотя что это значит — «своего часа» — представляла себе смутно. Пока однажды не решилась рассказать об отце с помощью его же записей.
Пусть многие из них не имеют ни начала, ни конца, и пусть память о событиях или об их отзвуках в рассказах близких поможет мне сложить их в относительно завершенные эпизоды…
Пусть возраст записей неизвестен — ничто не датировано, и о времени можно судить лишь по состоянию бумаги и чернил…
Пусть даже содержание записи — не показатель времени: многое отец записывал годы спустя…
Пусть некоторые листки превращены временем в обрывки с одной-двумя фразами…
Но, в конце концов, настает момент (это, наверное, и есть «свой час»), когда понимаешь, что это не так уж важно: это не дневниковые записи, и событийность, если она и есть, важна как причина эмоционального состояния. А оно и есть главное — и в жизни, и в творчестве, и в записях.
В некоторых случаях отец придумывает себе собеседника: всегда легче обращаться к кому-то, пусть вымышленному, чем в пустоту. Встречаются и неотосланные письма. Но они заметно отличаются от обращений к несуществующему адресату. Так, «кому-то» отец рассказал историю знакомства с моей матерью — одну из самых волнующих историй своей молодости. И я узнаю ее потому, что мне она была рассказана в свое время с той же, чисто отцовской интонацией. Иногда мысль выражена одной или двумя фразами.
А то, что удалось сложить в законченные абзацы и эпизоды, сохраняет тонкость и красоту рисунка. На сей раз — словесного. Но, конечно, только в контексте прожитого и созданного художником его архив приобретает смысл и плоть.
«Была весна…»
Была весна, сумерки и воздух такой, что пить его хотелось…
Я возвращаюсь с этюдов. Было мне тогда двадцать лет… Этюд в этот день удался. И от всего этого, и от того, что дышалось полной грудью, хотелось орать во всю глотку и на весь свет…
Вместо этого прыгал, как сумасшедший, через лужи…
Этюдник раскрылся, и тюбики с краской разлетелись…
Собирал их почти наощупь, в темноте, — помню ощущение шершавой наклейки под пальцами — почему-то уличные фонари тогда долго не зажигались…
Завернул за угол и вдруг притих. По улице двигались, словно тоже притихшие, темные фигуры с чем-то светящимся в руках. Будто несли светлячки. Я подошел поближе — да это же подснежники! Они буквально фосфоресцировали в темноте…
Отцу двадцать лет. Значит, был это 1928 год. Кажется, именно тогда его выгнали (или годом раньше?) из Художественного института. Выгнали за «непролетарское» происхождение, сразу после первого курса: опомнились. В доказательство своей лояльности к пролетарской эстетике, он должен был снять галстук и белую рубашку — буржуазные пережитки — и надеть косоворотку. Он не снял галстук, не надел косоворотку, а надвинул на ухо берет, набросил плащ и пошел учиться в студию известного педагога-живописца Михаила Михайловича Ярового. «Научить нельзя, можно только научиться», — всегда повторял отец.
Он учился у Ярового главному: ремеслу. Дисциплине глаза и руки. Немногословной точности рисунка. И — насколько мне позволяет судить память — неуменью жить вне работы.
Сколько его помню — он с кистью либо с карандашом. И если не рисуется ничего более, моделью становится собственная рука. И если сидеть невмоготу, то из положения полулежа — угол крыши напротив. И небо. И птицы косяком…
Жаль, конечно, института. Татлин хорошо учит — успел год у него позаниматься. И у братьев Стенбергов. Но что делать: выгнали.
Я хочу одного: работать. Когда знаешь, чего хочешь, то и отбираешь точно, а не все подряд.
Михаил Михайлович Яровой был непрост и славился жестким характером. Терпеть не мог халтуры и легкого отношения к ремеслу. Не терпел богемной неорганизованности. И еще: не терпел позировать. Особенно студентам. Потому портретов Ярового почти нет. Почему единственным художником, ради которого сделано исключение, был Литинский — можно только гадать.
Живописный портрет работы моего отца исчез во время немецкой оккупации Киева, как и вся остальная коллекция его работ.
Но ему предшествовали карандашные наброски и, как окончательное решение — композиционное и пластическое — графический портрет, который, по сути, явился эскизом к будущему живописному. Как видно, и автор рисунка, и его учитель считали портрет законченным и самостоятельным, коль значится на нем: «Портрет художника М. М. Ярового». И подпись отца: И. Литинский. 1933 год.
…А живописный где-то есть, где-то он бродит. Впрочем, как очень, очень многое из отцовского наследия.
А рисунок-портрет всю жизнь у нас в доме висел. Вот и сейчас висит передо мной.
А то, что отец не снял галстук и белую сорочку, подтвердила удивительная история с фотографией, которую мне сын однажды принес. Лет через шестьдесят после описываемых событий.
Леня тогда работал в Музее истории города Киева и иногда имел дело с архивами.
— Мама, кто это?
Сын указывает на центральную фигуру групповой фотографии.
— Яровой, — говорю я (сын-то его узнал по рисунку деда, который постоянно видел).
— А это кто? — указывает на стоящую сзади фигуру.
Я ахнула: — Мой отец. И твой дед.
Действительно. Стоит отец, совсем молодой.
И в рубашке. И с галстуком.
И подпись: студия М. М. Ярового. Киев. 192? год. Последняя цифра стерта. Конец 20-х годов, должно быть.
— Где взял фотографию?
— В куче архивного хлама.
Чуткость это такой же талант, как умение слышать и видеть. Это талант души.
…Едем с Самом (Самуил Кручаков, художник, друг отца. — А. Л.) на этюды…
Вышли на платформу, дождь только прошел. Первое, что увидел: дерево, а под ним лужа. Вода в ней слегка подрагивает. Обычное дерево. Обычная лужа.
А рядом парнишка лет 5–6 ревет без умолку. Сам спрашивает:
— Ты не знаешь, чего он ревет?
— Знаю. Он не знает, что с этим делать.
— С чем?
— С этим чувством. С тревогой. Видишь лужу? Видишь дерево? Видишь отражение дерева в луже? И он видит. К дереву он уже привык, а к отражению — нет. Может, он впервые его заметил. Это уже другое дерево. Это уже феномен искусства. А с ним никогда не знаешь, что делать. Ты знаешь?