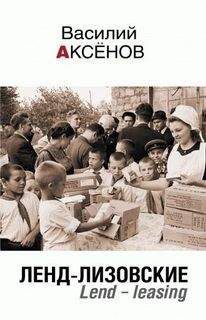Василий Аксёнов - Весна в Ялани
– А чё ты приходил?
– Сказать тебе.
– А чё сказать-то?
– Зовут тебя.
– Куда? – спрашивает Коля.
– Туда, – говорит Данила. – Где пять скворечников около дома.
– В Луговом краю? – спрашивает Коля.
– Где я был, – отвечает Данила.
– Электрик?
– Может. Такой – как дерево.
– Понятно.
– Ольха без листьев.
– Это он… Сушкой угостить? – спрашивает Коля.
– Нет, – говорит Данила.
– А чё ты хочешь?
– Пойти, – и развернулся. – Дверь, нога, порог, дорога, у людей одна беда…
– Какая? – спросил Коля.
– Одна, – ответил Данила.
Вышел. Ушёл без до свидания. Как для него обычно – для Данилы.
Включил Коля телевизор. Звук отключил.
– А-а, надоели.
Смотрит.
Всё одно и то же.
Верный залаял, слышит. Разговор в ограде. В дом кого-то Луша вводит. Ввела, сама осталась там, за дверью.
Сержант милиции и старший лейтенант, участковый.
«В Линьковский край к нам не проехать, – подумал Коля. – Где-то оставили машину. На Пятачке?.. У магазина?»
– Добрый день, – говорит лейтенант.
– Драсте, – говорит сержант.
На сержанте форма, что называется, сидит. Как влитая. На него её будто и шили. Придраться не к чему, хоть и захочешь.
Выправка.
На участковом – словно на гвозде висит.
Десять нарядов бы вне очереди.
Шилось на дедушку, досталась бабушке. Куртка ему, участковому, велика – погоны звёздочками на предплечья съехали, и рукава – почти как у боярской шубы. Шапка на уши натянута, глаза едва из-под неё выглядывают. Брюки гармошкой на ботинках – то ли сползли, не держит их ремень, то ли длинные не по размеру.
У сержанта в руках ничего нет, в перчатках, у участкового – под мышкой папка чёрная, и руки голые – пальцы виднеются из рукавов.
Лейтенанту лет тридцать. Сержанту двадцать два – двадцать три, вряд ли больше. Подбородки у того и у другого гладко выбриты, розовые, щёки алые, в румянце, а на верхней губе у того и у другого пушок золотистый, одинаковый. Поменяйся они друг с другом этими усами, никто и не заметит этого обмена. Сибиряки по виду оба, истые чалдоны.
По полу ногами постучали – из вежливости. Не раздеваясь – на службе, дескать, дело ясное, – проходят. В углы не смотрят – не ищут икон.
Сержант, сняв шапку и из рук её не выпуская, садится на диван, рядом с Колей. Замер, как в столбняке, – уткнулся взглядом в телевизор, как на какую-то диковину, ещё бы рот от удивления открыл.
Мальчишка.
Лейтенант солидно, по-взрослому, устраивается за столом, на табуретке, и, вытерев машинально перед собой рукавом куртки светло-зелёную клеёнку с бананами и ананасами на ней, папку на стол кладёт. А шапку так и не снимает, лишь на затылок её сдвинул.
Командир.
Оба, сержант и участковый, белобрысые.
– Фамилия, имя, отчество, – спрашивает, раскрыв папку и достав из кармана кителя ручку, лейтенант; на Колю не глядит при этом.
– Безызвестных Николай Сергеич, – отвечает Коля.
– Место и дата рождения.
Назвал Коля.
– Как обнаружил труп?
– А, это это-то… Да шёл…
– Куда шёл?
– В Ялань.
– Откуда?
– От деляны.
– Что там делал? С какой целью был?
– Где?
– На деляне.
– Сторожил.
– В какое время?
– Сторожил?
– Труп обнаружил.
– А-а. Не знаю, – говорит Коля. – Утром. Часов в девять или в десять… Если по солнцу…
– А на часы-то не смотрел?
– А они были бы…
– Понятно.
Рассказал Коля всё, как было, скрывать ему нечего. Про лыжников лишь промолчал, про то, что Шура уходил куда-то, тоже.
Зачем про это – раз вернулся, его на месте же нашли.
– Каких-нибудь споров, разногласий, вплоть до рукоприкладства и физического разбирательства, у вас с Александром Николаевичем Лаврентьевым раньше не возникало? – спрашивает участковый.
– Нет, – отвечает Коля.
– Угу, – говорит участковый.
– А чё нам было с ним делить?
– Тебе лучше знать, всякое бывает, – стараясь подражать то Глебу Жиглову, похоже, то Володе Шарапову. И говорит тут же: – А бензопилы Штиль при нём, при трупе, не было, случайно?
– Не видел.
– Хм. А вот в рейсовом автобусе, как выяснилось, – говорит участковый, глядя внимательно на Колю, прямо в глаза ему, – из Елисейска ехал он с пилой и из Ялани с ней же выходил к себе на пасеку.
– Не знаю, – говорит Коля. – Может.
– Может не поможет, – говорит лейтенант. – Разберёмся. А рюкзака какого-нибудь там, рядом с трупом, не валялось?
– Не валялось.
– Сороки, значит, утащили.
– Вороны.
– Что вороны?
– Утащили.
– А-а… Вот, распишись, где с моих слов записано верно… мною прочитано – под этим тоже.
Коля расписался.
– Ещё понадобишься, может. Тут будешь, дома, или где?
– Смотря когда? – спрашивает Коля.
– В ближайшие дни, – говорит лейтенант, захлопывая папку. – В текущий месяц.
– В лесу, – говорит Коля.
– Найдём, – говорит лейтенант. – Ты ж от дороги там недалеко?
– Да нет.
– Через водителей, лес возить ещё не перестанут, вызовем.
– Ладно.
– От нас не скроешься.
– Чё мне скрываться?
– Кто тебя знает… Может, ты террорист известный, в розыске…
– А! Ну…
– Шучу.
Ушли милиционеры. Не попрощавшись, как и Данила.
Они ушли, Луша вошла и сразу, от двери:
– Чё, доигрался?!
– А я-то чё? – говорит Коля.
Глаза у Луши округлились – будто она чему-то сильно не обрадовалась. Мелкими каплями пот на носу – стирала.
– Ты бы ничё, милиция бы не приехала. Чуть не описалась от страху… А чё с ним, с Шурой? Спрашивали про него… Видела я его, не видела?.. Ну, видела. Ходил, орал тут, по Ялани, как самашедший, поубивать всех обешшал, всех изнасиловать грозился.
– Не убьёт, не изнасилует…
– Знаю, что не убьёт, не изнасилует, болтает тока. Хотя…
– …теперь он кроткий.
– Чё с ним опять стряслось? Напился до беспамятства?
– Замёрз, – говорит Коля.
– Осподи, помилуй! – восклицает и крестится Луша. – Насмерть?!
– Не отогреть.
– Да это как же он?
– Не знаю.
– Где?
– На дороге, – говорит Коля. – Возле Соснова…
– Ну как же так?! – будто кого-то спрашивает Луша, руками хлопая себя по бёдрам. Сама себе и отвечает: – А как, да так: всё пьют да пьют, никак не успокоются, свою брюшину не зальют, как крокодилы… Ой, Шура, Шура, хоть и был… плохо о мёртвом-то нельзя… Совсем не старый… Пойду достирывать…
Пошла.
– Прими, – бормочет, – Боже, и упокой душу безвременно околевшего… Богу судить его – не мне… Ой, Шу-ура, Шура! Дособачился!
– И я схожу, – говорит Коля.
– Это куда? – спрашивает Луша, в дверях остановившись.
– Да тут.
– К матери? – спрашивает Луша.
– И к матери зайду, – говорит Коля.
– Долго не будь, то заложусь на крюк – не достучишься.
– Я ненадолго.
– Давно известно ваше ненадолго, печать свинцовая – не слово. К друзьям опять? – спрашивает Луша.
– Да тут, – говорит Коля.
– Ну, ясно. Там еслив чё, сюда не заявляйся.
– Да я…
– Да ты… Беда-то где.
– Да мне…
– Ступай. Спасибо, что проведал. Я уже знаю…
– Я…
– Молчи уж. Бельё-то старое, в котором был, из бани не принёс?
– Забыл.
– А голову вот не забыл!
– Там ещё эти… мужики… убить хотели.
– Забыл и голову. Убить его хотели… Совсем запился… Замачивать всё надо – затаскал, уже просалилось, наверное. И полотенце вафельное там ещё, посудное, на кухне, чуть, как и ты же, не забыла.
Коля и Луша вместе вышли из избы. Луша – в подсобку, Коля – за ограду.
Люди вот Шуру не могли смирить…
– Смирило.
Что-то.
– Кто. Канешна.
Тайгой пахнет. И дымом. Чтобы совсем к утру в доме не выстыло, яланцы печки затопили. Небо не тёмное, дым на нём можно разглядеть – более тёмными мазками вырисовывается. Вверху его к востоку поворачивает. Над Кемью, в Камень упираясь, в лепёшку плотную сбивается – висит; птица какая-нибудь вздумай пролететь через лепёшку эту, в ней увязнет.
Звёзды высыпали уже густо – проявились. Только на западе их заслоняет пелена – к смене погоды: заморочит и заметелит.
– Не привыкать…
Ну, может, хоть маленечко оттеплит?
Зарево на востоке поднимается – как от пожара – луна за Камнем. Скоро покажется, округу оживит.
И фонари зажглись, включились только что – пока сиренево ещё мерцают, но в силу входят на глазах. Набрали силу – побелели.
– Ялань, – говорит Коля.
Хорошо.
Постоял возле ворот. Покурил. В избе курить нельзя. Луша запрещает. Она в доме хозяйка. У них, у старообрядцев, с табаком строго. С выпивкой – послабже. Только своё – не магазинное, не государево. Самогонка, бражка, медовуха. Коля послушный. Как покурить, сам себя гонит за ворота.