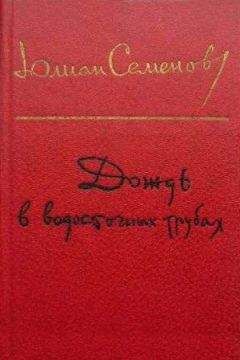Джером Сэлинджер - Собрание сочинений
— Будь так добра, подойди к телефону, барышня, прошу тебя, — уклончиво ответила миссис Гласс. — Только, ради бога, поскорее.
— Наверно, ты ему сообщила, что я, скажем, на смертном одре, — сказала Фрэнни. Ответа не последовало. Она встала с дивана — не так хрупко, как мог бы встать больной после операции, но с легчайшим оттенком робости и осторожности, словно опасалась легкого головокружения, а то и рассчитывала на него. Уже увереннее сунула ноги в шлепанцы, затем мрачно обошла кофейный столик, развязывая и вновь завязывая узлом пояс халата. Где-то годом раньше в неспровоцированно самоуничижительном абзаце письма, адресованного Дружку, свою фигуру она определила как «безупречно американческую». Глядя на нее, миссис Гласс, кстати сказать — великий ценитель девичьих фигур и походок, еще раз вместо улыбки чуть поджала губы. Стоило, однако, Фрэнни скрыться с глаз, как ее мать все внимание обратила к дивану. По всему виду миссис Гласс было ясно: мало что на свете не одобряет она столь же пылко, как тот факт, что диван этот — хороший, обитый тканью с начесом, — уготовлен для сна. Она зашла в проход между ним и кофейным столиком и принялась в лечебных целях взбивать все подушки, на кои падал взор.
Фрэнни же по пути проигнорировала телефон в коридоре. Очевидно, она предпочла длительную прогулку до родительской спальни, где располагался более популярный аппарат. В походке ее, пока она шла по коридору, не виделось никаких отчетливых странностей — она ни тянула время, ни особо спешила, — и однако по мере продвижения Фрэнни преображалась. С каждым шагом будто становилась ощутимо младше. Возможно, длинные коридоры, плюс последствия слез, плюс телефонный звонок, плюс запах свежей краски, плюс газеты на полу — возможно, сумма всего этого равнялась для нее новой кукольной коляске. Как бы то ни было, когда Фрэнни дошла до двери в родительскую спальню, ее элегантный, сшитый на заказ домашний халат из галстучного шелка — вероятно, символ всего, что в общежитии считалось роскошным и фатальным, — выглядел так, будто на ходу обернулся шерстяным халатиком маленькой девочки.
В спальне мистера и миссис Гласс смердело — даже воняло — свежевыкрашенными стенами. Всю мебель согнали на середину комнаты и накрыли холстиной — старой, заляпанной краской, натуральной на вид холстиной. Кровати тоже отодвинули от стены, однако накрыли хлопковыми покрывалами, предоставленными самой миссис Гласс. Телефон теперь стоял на подушке мистера Гласса. Очевидно, миссис Гласс тоже предпочитала его более публичному параллельному аппарату в коридоре. Трубка лежала рядом, ждала Фрэнни. Почти совсем по-человечески надеялась, что ее существование признают. Чтобы до нее добраться, оправдать ее ожидания, Фрэнни пришлось прошаркать по всей комнате, по россыпи газет и обогнуть пустое ведерко из-под краски. А дотянувшись до трубки, Фрэнни не взяла ее сразу, а просто села рядом на кровать — посмотрела, отвела взгляд, провела рукой по волосам. Тумбочку, обычно стоявшую у кровати, теперь придвинули так, что можно было ее потрогать, не вставая. Фрэнни сунула руку под особо заляпанный участок холста, закрывавший тумбочку, пошарила взад-вперед, пока не наткнулась на искомое: фарфоровую сигаретницу и коробок спичек в медном держателе. Закурила, потом еще раз глянула на телефон — продолжительно, крайне тревожно. За исключением покойного Симора, следует отметить, прочие братья Фрэнни по телефону говорили чересчур звонко, если не сказать — бодро. В этот же час, вероятно, Фрэнни в глубине души сомневалась, стоит ли рисковать и доверять единственно тембру голоса по телефону — не говоря уж о словесном наполнении, — кто бы из братьев ни звонил. Тем не менее, она нервно затянулась и довольно храбро взяла трубку.
— Алло. Дружок? — сказала она.
— Привет, милая. Как там у тебя — все ничего?
— Я нормально. Ты как? Ты что, простыл? — Затем, когда немедленного ответа не поступило: — Бесси, наверно, что ни час тебе отчитывалась.
— Ну… в каком-то смысле. Туда-сюда. Известное дело. У тебя все ничего, милая?
— Нормально. Но голос у тебя все равно странный. Либо у тебя кошмарная простуда, либо связь кошмар. Ты вообще где?
— Где я? В своей тарелке, Плюшка. В домике с привидениями дальше по дороге. Ладно. Поговори со мной.
Фрэнни беспокойно закинула ногу на ногу.
— Я не очень понимаю, о чем бы ты хотел поговорить, — сказала она. — То есть, что именно Бесси тебе наплела?
На линии повисла крайне характерная для Дружка пауза — лишь чуточку загустевшая от превосходства им прожитых лет, — которая так часто испытывала терпение как самой Фрэнни, так и виртуоза на другом конце провода, когда они были совсем маленькими.
— Ну, я, в общем, не могу сказать, что именно она мне плела, милая. Настает миг, когда слушать Бесси по телефону — уже как — то грубо. Я слышал про чизбургерную диету — в этом не сомневайся. И, разумеется, про книжки о Страннике. А потом, кажется, я просто сидел с трубкой возле уха и толком не слушал. Известное дело.
— А, — сказала Фрэнни. Сигарету она переместила в ту руку, которой держала трубку, а свободной снова пошарила под холстиной по тумбочке и отыскала крохотную глиняную пепельницу, которую поставила рядом на кровать. — У тебя чудной голос, — сказала она. — Ты простыл или что?
— Я изумительно себя чувствую, милая. Сижу тут, с тобой разговариваю, и мне изумительно. Слышать тебя — уже радость. Даже не передать словами.
Фрэнни опять одной рукой отвела от лица волосы. Ничего не сказала.
— Плюшка? А может, Бесси чего упустила? Ты вообще как насчет поговорить?
Пальцами Фрэнни слегка изменила позицию крохотной пепельницы рядом на кровати.
— Ну, — сказала она, — сказать правду, я уже несколько наговорилась. Зуи на меня напрыгивал все утро.
— Зуи? Как он?
— Как он? Блестяще. Он просто лучше некуда. Я б его просто убила.
— Убила? Почему? Зачем, милая? Зачем убивать нашего Зуи?
— Зачем? Затем, что убила бы! Он до того вредный. Я за всю жизнь таких вредин не встречала! Это все так излишне! То он целиком и полностью ополчается на Иисусову молитву — я ею тут случайно заинтересовалась, — и начинаешь думать, будто лишь из-за того, что тебе это интересно, ты какой-то невротичный недоумок. А проходит две минуты, он тебе начинает бредить про то, что Иисус — единственный человек на свете, которого он вообще хоть сколько-то уважает — у Иисуса великолепные мозги и все такое. Просто сумасброд. То есть все ходит и ходит вокруг да около этими кошмарными кругами.
— Рассказывай. Рассказывай давай про кошмарные круги.
Тут Фрэнни оплошала — нетерпеливо выдохнула, чуть глубже затянувшись. Закашлялась.
— Рассказывай, ага! Да это на весь день всего-навсего! — Она поднесла руку к шее и дождалась, когда пройдет неудобство от дыма, залетевшего не туда. — Он просто изверг, — сказала она. — Точно! Ну, не по правде изверг, а… я не знаю. Так злится на все. На религию злится. На телевидение злится. Злится на вас с Симором — все твердит, что вы оба нас изуродовали. Откуда я знаю? Скачет с одного на…
— Почему изуродовали? Я знаю, что он так думает. Или думает, что думает. Но он сказал, почему? Как он определяет уродование? Он сказал, милая?
И тут Фрэнни, в явном отчаянии от наивности вопроса, стукнула себя рукой по лбу. Весьма вероятно, так она не делала уже лет пять-шесть — с тех пор, к примеру, как на полпути домой в автобусе на Лексингтон-авеню поняла, что забыла шарф в кино.
— Как он определяет? — переспросила она. — Да у него на все найдется определений сорок! Если тебе кажется, что я чуточку не в себе, это из-за него. То он — вот как вчера вечером — говорит, что мы чучела, потому что нас так воспитали, что у нас только один набор норм. А через десять минут говорит, что он чучело, потому что ни с кем не хочет встречаться и выпивать. Единственный раз…
— Чего не хочет?
— Встречаться ни с кем и выпивать. Ой, да тут ему вчера вечером пришлось поехать в город выпить с этим телесценаристом в Виллидже и все такое. Ну и началось. Говорит, ему вообще хочется встречаться и выпивать только с теми, кто уже либо умер, либо не может. Говорит, ему даже обедать ни с кем не хочется при мысли, что его сотрапезник вдруг не окажется лично Иисусом — или Буддой, или Хуэй-нэном, или Шанкарачарьей, или еще кем — нибудь вроде. В общем, ты понял. — Фрэнни вдруг загасила в крохотной пепельнице сигарету — отчасти неловко: другая рука была занята и пепельницу не придержала. — И знаешь, что еще он мне сказал? — спросила она. — Знаешь, в чем он мне клялся чем ни попадя вчера вечером? Что когда ему было восемь, он на кухне выпил по стакану имбирного ситро с Христом. Слышишь меня?