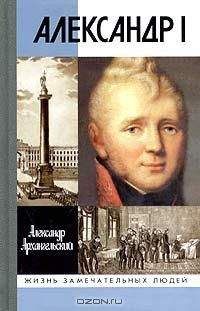Виктор Лихачев - Единственный крест
— Да. А как ты догадалась?
Лиза улыбнулась:
— Мы с тобой две половинки одного целого… Так что же ответил батюшка?
— А я то думал, что только мне дано удивлять других… Урок мне.
— Сколько у тебя их еще будет, зубастый.
— Вот и с эпитетами у тебя все нормально.
— А то! Но ты мне зубы не заговаривай, что же сказал старец в ответ на твой вопрос?
— Сказал, чтобы я не умничал: «Не определений взыскуй, а любви. Не голову грузи, а сердце». И только посоветовал перечитать тринадцатую главу из первого послания апостола коринфянам.
— Тринадцатую? — с этими словами Лиза встала и подошла к книжной полке. Через минуту она вернулась на кухню с книгой. Нашла нужную страницу и стала читать вслух: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая, или кимвал звучащий.
Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто.
И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, — нет мне в том никакой пользы.
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится,
Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,
Не радуется неправде, а сорадуется истине;
Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
Любовь никогда не пересыхает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится»…
Она умолкла, молчал и Асинкрит.
— О чем ты думаешь? — наконец, после долгого молчания, спросила Лиза.
— О Любови.
— О любви?
— О Любе Братищевой.
— Ты знаешь, я о ней очень часто думаю.
— Как она?
— Плохо. Если ты не видел ее неделю…
— Я не видел больше.
— …ты вряд ли узнаешь Любашу.
— О, Господи! А что говорят врачи?
— Обычные в таких случаях слова: делаем все возможное, но… И разводят руками. Метастазы у нее в позвоночнике. Боли нестерпимые.
— Наркотики колют?
— Колют, и про хоспис говорят. Он в нашем городе маленький. Вадим уже ищет место… Страшно ей, особенно ночи Любочке тяжело даются. За Олю очень переживает, плачет.
— Она знает, что…
— Знает, — сразу поняла Сидорина Лиза, — хотя ей про остеохондроз говорят. Впрочем, одна хорошая новость все-таки есть. Мы с Галиной разыскали непутевого отца Олечки.
— И что, не совсем безнадежен?
— Мне показалось, что совсем. Но у типа этого есть сестра, очень порядочная женщина. Одинокая. Сейчас она здесь, откуда-то из-за Урала приехала. Представляешь? Говорит, чтобы мы за Олю не переживали… О чем ты молчишь?
— Я вспоминаю, есть ли у тебя гитара.
— Есть. Миша не играл, но всю жизнь мечтал выучиться. А при чем здесь гитара?
— А при том, что сегодня воскресенье, в больнице вот-вот тихий час кончится, к больным придут родные и друзья…
— Ты хочешь…
— А какие люба песни любит? — похоже Сидорин не слышал Лизу.
— Традиционно — Окуджава и все песни, что мы в юности в походах у костра пели. Да, Визбора очень любит, Клячкина, Егорова.
— Отлично. Собирайся, душа моя, поехали.
— Ты уверен? Нас могут не пустить.
— Пусть только попробуют.
— Нельзя, — поняла все Лиза, — нам нельзя сдаваться.
— И мы поборемся с ней за Любу. Так легко мы друзей не отдаем.
— С ней? — удивилась Толстикова. — Ты о ком говоришь?
— О черной попутчице в белых одеждах.
* * *Но их действительно не пустили, вернее, не пустили Сидорина с гитарой. Он категорически не пожелал оставить инструмент в приемном покое. Лиза прошла к Братищевой в палату и укутала подругу заранее приготовленным пуховым платком. В этот вечер Асинкрит пел только по заявкам Любы, которая впервые за много месяцев была искренне счастлива. В палате кроме нее были Лиза, дочь Оля и Нина — та женщина, что приехала из-за Урала. Олечка или Толстикова поочереди высовывались в форточку, и называли ту или иную песни, а Сидорин пел — без перерыва. Лиза видела, что поначалу Асинкрит волновался, но с каждым новым аккордом голос его звучал все увереннее. А голос был совсем не плох, но самое главное — и это почувствовали все — Сидорин поймал кураж. Уже после первой песни раздались аплодисменты: Лиза и Люба не могли видеть, что все окна пятиэтажного здания больницы облеплены больными. Асинкрит поначалу прижал палец к губам, тем самым попросив не хлопать ему, но потом решил, что это было бы неправильно: если уж концерт — так концерт. Пусть люди чувствуют себя зрителями.
А когда он запел самую «затертую» песню Визбора — «Милая, моя, солнышко лесное», то вдруг почувствовал, что ему вторит большой «хор». Пели люди в больничных пижамах, пели молоденькие сестрички и пожилой врач, пела Люба. Пела и плакала, по-детски размазывая слезы по щекам. На какое-то мгновение комок подкатился у Асинкрита к горлу, и только усилием воли Сидорин заставил себя улыбнуться и петь, как ни в чем не бывало:
Не утешайте меня, мне слова не нужны
Мне б отыскать тот ручей у янтарной сосны…
Но закончил он свой импровизированный концерт другой песней. Своей любимой. Пел ее Сидорин в такой тишине, что когда в конце концов умолкли усталые струны, и слушатели будто впали в оцепенение, из которого их вывели только крики, раздавшиеся одновременно на нескольких этажах: «Больные, на ужин». Асинкрит положил гитару на землю и подошел вплотную к окну Любиной палаты. Нарисовал на стекле сердечко и прокричал:
— Сестренка, готовься к путешествию!
Лиза и Люба переглянулись.
— Мы не поняли, акын, — так, разумеется, назвать Сидорина могла только Лиза, но глаза у нее тоже были заплаканы.
— Придет время, поймете.
— Когда придет, Асик? — тихо спросила Люба, но Сидорин услышал ее.
— Очень скоро, очень…
А вот та песня, которой он закончил свой концерт под окнами больничного корпуса:
Я бы новую жизнь своровал бы, как вор,
Я бы летчиком стал, это знаю я точно,
И команду такую: «Винты на упор!»
Отдавал бы, как Бог, домодедовской ночью.
Под моею рукой чей-то город лежит,
И крепчает мороз, и долдонят капели,
И постели-метели, и звезд миражи
Освещали б мой путь в синеглазом апреле.
Ну, а будь у меня двадцать жизней подряд,
Я бы стал бы врачом районной больницы.
И не ждал ничего, и лечил бы ребят,
И крестьян бы учил, как им не простудиться.
Под моею рукой чьи-то жизни лежат,
Я им новая мать, я их снова рожаю,
И в затылок мне дышит старик Гиппократ,
И меня в отпуска все село провожает.
Ну, а будь у меня сто веков впереди,
Я бы песню забыл, я бы стал астрономом,
И прогнал бы друзей, просыпался один,
Навсегда отрешась от успеха земного.
Под моею рукой чьи-то звезды лежат,
Я спускаюсь в кафе, словно всплывшая лодка,
Здесь по-прежнему жизнь, тороплюсь я назад
И по небу иду капитанской походкой.
Но ведь я пошутил, я спускаюсь с небес,
Перед утром курю, как солдат перед боем.
Свой единственный век отдаю я тебе:
Все, что будет со мной, это будет с тобою.
Под моею рукой твои плечи лежат,
И проходит сквозь нас дня и ночи граница,
И у сына в руке старый мишка зажат,
Как усталый король, обнимающий принца.
А через полчаса Сидорин, не объяснив ничего, исчез из города. Он только поцеловал на прощание Лизу и попросил ее: