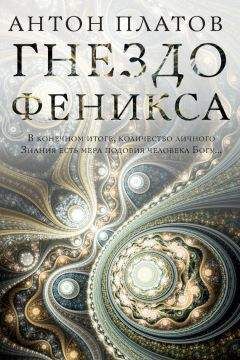Антон Уткин - Крепость сомнения
И еще самую удивительную вещь, случившуюся совсем недавно. Как же это было? Вроде бы и ничего особенного, а все настолько странно, что никак не может быть случайным. Итак, случайным вечером...
И с изумлением обнаружила, что все это говорит уже не она, Маша, а говорит это Галкин, и именно теми словами, которыми могла бы сказать она. Да она и говорила, мысленно, не открывая рта, и словно усилием мысли вкладывая слова в уста Галкину.
– Поверь мне, – сказал Галкин тихо. – Все было так, как я рассказываю. Я был в комнате, когда разбился шар. Я сам был этим шаром.
Маша долго смотрела на Галкина, не мигая, не говоря ни слова.
– Да, – вымолвила наконец она. – Но как ты...
Хохот, грянувший из-за соседнего столика, не дал ей договорить. Там сидела целая компания пожилых иностранцев, и потому, что пожилые иностранцы ничего не ведали ни о том, что было раньше на месте этого уютного кафе, где им так весело, ни о том, что у нее подвернулся каблук, и, в общем, получалось так, что не эти довольные иностранцы мешали Маше и Галкину, а наоборот, Маша и Галкин мешали иностранцам веселиться, и именно им приходилось нести отсюда свое сосредоточенное счастье.
– Пойдем, мне надо тебе что-то показать, – загадочно сказал Галкин, осторожно освободил свой взгляд от Машиных глаз, нашел им официантку и сложенными пальцами правой руки нарисовал в воздухе змейку.
Ожидание счета прошло в томительном молчании... Но теперь, когда оба они стояли в преддверии тайны, Галкин спрашивал себя, случилось ли все это с ними на самом деле или только привиделось?
* * *В сумеречном преддверии ночи Илья сидел за столом, тускло освещенном круглой лампой. Сумрак заглядывал в окна осторожно, словно человек, сидевший за столом, мог его спугнуть и поворотить вспять. И лампа, как сообщник и того и другого, источала свет так же осторожно, в меру своего положения. Левый верхний угол левой страницы прикрыт треугольником тени, это раздражало, но по странной прихоти он не менял своего положения. Давно забытое состояние владело им вот уже несколько часов, и он старался неосторожным движением не стряхнуть с себя этот покров.
«В лето 6974 хожение некоего гостя Афиногена.
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Се аз раб Божии многогрешный Афиноген, и подвизахся видети святых мест и градов, и сподоби меня Бог видети и поклонится святым местом, за молитв святых отецъ наших Господи Исусе Христе сыне Божий помилуй нас, аминь».
Сегодня Илья извлек наконец из недр шкафа ту книгу, которая столько лет прятала от него свой корешок. Он выставил стекло и по одной вынимал их с верхней второй полки, пока не образовалось место и не стало можно засунуть руку в пустоту и дотянуться до беглянки в перламутровом платье с кожаными манжетами уголков. Это оказалась книжка «Журнала Министерства народного просвещения» за май 14-го года, и там-то он нашел этот странный рассказ. По форме это было классическое «хожение», то есть отчет о путешествии русского человека в дальние края. Афиноген этот был не купец даже, а простой посадский человек, как-то связанный с причтом, знающий грамоте, из Рязани, «поидох от Азова с купцами и велможами великими к Царю городу», а оттуда ко Гробу Господню, а вот дальше начиналось нечто неслыханное: Афиноген отправился в Египет, добрался до таинственного, но уже лежащего в руинах Саиса, где нашел, между прочим, монофизитского епископа, который после многократных просьб отвел его к статуе Нейт, мыслившей о себе так: «Я все, что есть, что было и будет. Ни один смертный не поднял моего покрывала». «Я же, – признавался Афиноген, – птицу Сирин мняще поволоку ту словно скинул, а себя узрел. И неизреченно то есть, сказать не могу внятно. Искали тут мудрости, а нашли ли, про то Ты, Господи, веси. Ибо один Бог, зиждитель милосердный, всеблагий, Его же славлю, аминь».
Дальше описывалась обратная дорога, исполненная множеством приключений и проволочек, – «Яффа-город большой и славный велми» – о нападении пиратов где-то в Архипелаге: «да разбили нас со страху не к берегу, не знаем к какому, ой, не похулите нас, грешных, срама нашего ради, а жизнь дает тот, кто забирает, и мати моя в муках меня рожала и кормила, и поила, и пеленала не для того, чтобы бусорманин поганый рукою своею голову мне снял и жизни меня лишил. Не он давал, не ему и брать...» И потом подобрали их фрязи: «И пошли в корабль и прошли пятьсот миль, видел я землю и видел горы, о них же ничего не читал и не слышал. И видели здесь мудрость недоуменную и несказанную. И всякого неизреченного, и палаты чудесные, и умом то помыслить чудно».
Илья машинально отмечал немыслимые сопряжения, смешные несогласования и недоумевал, как могли проглядеть столь грубую подделку. Он даже различал вставки и вспоминал, из какого памятника они сюда попали. И все же было между этих слов какое-то биение неподдельного чувства, и это заставляло его взгляд вытягивать с полотна листа следующие и следующие строки. Фрязи, то есть итальянцы, привезли Афиногена в Тану, оттуда он пошел с генуэзским посольством в Литву и уже в южной степи встретил своих: «Князь Елецкий Олелько Михайлович конями идохом с ловитвы, и к ним я пока пристал. В Елец пришли, и епископ Геннадий тамо бяше и призвал меня к себе, и выспрашивал долго, и что я говорил иное, то в сомнение брал, а иному верил. И казал я ему, Господи Боже, не лукавством каким и не помышлением худым, а токмо волей неизреченной неизреченного же потщахся постигнути. И рече мне владыко: грех бо тяжкий взял на себя. Я же кажу: понеже душа страждет чаемого, и на то я скорбел в душе моей... И отпустил меня восвояси. И поидохом я Русью, и птица жаворонок песни льет с небесех. И красно украшенная Русская земля водами изобильна и растением всяким, а боляре не добры в Русской земле.
А я ж, рабище Афиноген, ни полслова к правде не прибавил, а только то, что видел, то и говорил. С Ельца поидохом на Оку-реку и оттоль придохом в Рязань, славя Бога и Пресвятую Богородицу.
Отцы мои и братие, и господа мои, не попеняйте мне на худоумие мое простоты моей ради. Не обрел я страны той чаемой, а есть ли она на свете белом, про то мне неведомо. А то что видел, здесь прочтете. Как мог, так и написал».
И как это бывало с ним раньше, эти простые слова о возвращении повергли его в умиление... Ему вспомнилось, как несколько лет назад он случайно столкнулся со своим преподавателем палеографии. Он вышел из машины купить газет. Она стояла на остановке с тремя пакетами писчей бумаги, и платье, надетое на ней, он хорошо помнил еще со времени учебы. Бумага была тяжела, и она то и дело перекладывала ручки пакетов из руки в руку. «Возвращайтесь, Илья», – сказала она ему. Он не знал, как ему поступить. Предложить подвезти на своей машине ее он так и не решился. И сейчас, как и тогда, он испытал болезненный приступ стыда. Только сейчас чувство стыда сделалось невыносимым. Он ощущал себя отступником и в то же время чувствовал, что есть еще возможность избавиться от этого наваждения, которое уже много лет он таскал на плечах, которое считалось и называлось его жизнью.
Он вдруг подумал об Але как о самом близком и родном человеке. «Господи, – твердил он полный смиренной мольбы монолог героя из какого-то недавно виденного фильма, – верни мне эту женщину. Верни мне эту глупую, хитрую, вульгарную, необразованную женщину. Верни мне эту женщину, которой даже загар не идет. Стоп! Какую еще женщину? Жизнь мою верни мне. Еще не поздно. Она еще моя». И дух его покачнулся, как миндалинка горящей свечи.
«А если кто силен слышится, то да борется с неправдами, – писал псевдо-Афиноген, – а кто роту не порушил и лихвы не берет, то ему халял». Ушибив глаза о последнюю точку, он поднялся, обошел стол и приблизился к окну. И он стал вспоминать, как зимними вечерами разбирали с Татьяной Владимировной полуустав актов и писцовых книг, как уходили с кафедры самыми последними, поздней даже вечерников, а потом долго шли к метро по яблоневой аллее в крутящемся снеге. Теперь нет уже таких зим. Или ему так кажется? Потом он вспомнил Кирилла Евгеньевича и вспомнил еще разных других людей, которые помогали ему в жизни с радостью и бескорыстно. Большинство из них он мог отблагодарить только одним образом: быть тем, кого они в нем когда-то видели, угадывали в нем. И то, что только с той или иной степенью отчетливости давно уже угадовалось им – и как будто короткая вспышка молнии озарила окрестности и безжалостно показала ему его место в пространстве земли и способ вернуться к самому себе. «Боже мой, как стыдно», – мысленно произнес он.
Вспомнился ему и весенний его хирург-попутчик, и он подосадовал, что не спросил тогда ни его адреса, ни телефона, и как теперь его найти, и где он и что делает сейчас этот немного грустный человек. И как надо было бы тогда помочь с изданием его необычной коллекции, а теперь это уже невозможно. И невесело думал о том, как много еще разных вещей не сделал он и как дорого дал бы, чтобы снова получить такую возможность.