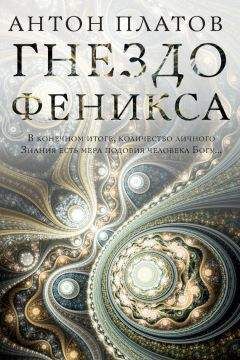Антон Уткин - Крепость сомнения
Рядом с ним в толпе на шканцах оказались два господина, по виду члены Земгора или Союза городов. Авенир Петрович невольно прислушался к разговору этих двух господ.
– Целая Россия тут. Поистине все это «Энеида». Помяните мое слово, еще сложат эпос обо всем этом. Где-то будет наш Лавиний? Да и суждено ли ему быть?
– Забудут, – отозвался его собеседник. – Кстати, я узнал: наган идет за лиру или 10 фунтов хлеба. Рубашка – хлеб.
Авенир Петрович отвернулся от них, уставился в волнующуюся соленую воду, но кто-то толкнул его под локоть. Обернувшись, он увидел перед собой того самого кадета, с которым ночью принимали роды. Сказать по правде, роды принимал кадет, а на долю Авенира Петровича досталось только выражать своим видом участие и готовность к какой-нибудь мелкой неожиданной услуге, которой, впрочем, не понадобилось. Кадет специально разыскал его как в некотором смысле связанного с ним узами ночного происшествия. Авенир Петрович вознамерился было узнать о причине его компетентности, вызывающей в таком невеликом возрасте удивление, но кадет сам предупредил его расспросы.
– Отец у меня служил управляющим на конном заводе Таврова, в Орловской губернии, не слыхали? – сказал он, откусывая от хлеба. – Так я сызмальства при лошадях. Насмотрелся всякого: и родины, и именины. Много раз видел, как они разрешаются.
Пожелав Авениру Петровичу всего хорошего, он сунул ему экмек и исчез в толпе своих сослуживцев, продолжавших восхищаться миром, так нечаянно распахнувшимся перед ними.
Авенир Петрович машинально стал откусывать и жевать резиновый турецкий хлеб, и в памяти его поползли картины последних трех дней.
* * *
Медленно выходили переполненные людьми корабли на внешний рейд Севастопольской бухты. Палубы, проходы, мостики буквально были забиты людьми. Ожидали сигнала к общему отплытию. Сыпал мелкий осенний дождь, и тишина стояла прямо неестественная. Далеко за бульварами, где была мельница Родоканаки, горели военные склады, и красные нервные блики пожара освещали стены Лазаревских казарм на Корабельной стороне. Сразу после приказа к общему отходу со всех кораблей послышались звуки церковных песнопений – служили напутственный, последний молебен. И вот в непогожем мраке зазвучало «Спаси, Господи, люди Твоя» и как облако сомкнулось над кораблями.
Ночью заработали машины, «Посейдон» побрел в море, покачиваясь, временами теряя равновесие от тяжелого людского груза на палубах и от недостаточно загруженных трюмов, давая крен то на правый, то на левый борт. Потом как-то стало посвободнее, словно движение утрясло население корабля. Морская болезнь вступила в полную силу, и кругом начались стоны и рвота. Публика стала устраиваться на ночлег, отвоевывая себе место в кубриках, в закутках, где попало. Менее активные так и сидели, зябли под брезентами прямо на железной палубе, а то и без всякого прикрытия от дождя и ледянящего ветра. Чтобы попасть в уборную, надо было отстоять очередь больше двух часов. Чтобы выбраться из трюма по своим неотложным нуждам, требовалось затратить час, как утверждали те, кому это удавалось. Часа два спустя после отхода от коменданта выдали по кружке солоноватой воды и по горсти муки. Самого его рвали на части, потому что в трюме кто-то умер, и никто там не нашелся подать помощь.
На военном корабле Авенир Петрович был впервые, свое пребывание освещать ему было нечем, и он не вставал, опасаясь свалиться в люк или разбить голову о какую-нибудь железяку рангоута, к тому же надо было постоянно переступать через чьи-то ноги, покрывавшие всю палубу, к чему у него не было охоты, а нужды тоже пока не было, и до света он решил терпеть и не двигаться с места.
Понемногу глаза его пообвыкли в темноте. Теперь он увидал кое-где синее пламя, как на примусах и на горячих трубах уже пекут лепешки из выданной муки, с удивлением различил, что было непостижимо, группу каких-то кадет, а что они делали, можно было понять и без света по бульканью жидкости. Вероятно, и они видели его, различали во мраке белки его глаз и протянули ему бутылку. Он сначала поежился при мысли, как ему, приват-доценту, и члену, и гласному городской думы выпить из горлышка черт знает чего, но тут же устыдился сам себя, решительно приподнялся, протянул руку и охватил бутылку ладонью, – причем владелец отпустил ее тогда только, когда убедился, что Авенир Петрович держит ее надежно, – и действительно приложился к мокрому горлышку и сделал два приличных глотка. «Белый мускат, Массандра, урожай 1913», – определил он на вкус. И подлинно – что за счастливый год это был! Один из самых светлых в его жизни. И когда потекли в памяти картины прошлого, внезапно все в этой темноте пришло в движение.
– Ради бога, есть здесь доктор? – выкрикнул из мрака какой-то дрожащий, срывающийся женский голос.
Авенир Петрович повторил вопрос два или три раза, но ответа не было.
Тогда в толпе кадет произошло движение.
– Смотри там, Кирюха! – со смехом крикнули кадету из группы его товарищей, и Авенир Петрович еще раз подивился легкости, с которой юность способна переносить невзгоды.
– Коменданта, коменданта позовите, – советовала откуда-то из-за голов дама, находившаяся далеко от места происшествия. Наконец в руке у кого-то появился переносной фонарь, и свет его заметался по палубе, выхватывая из мрака суровые, сумрачные лица. Все так простыли, что сидели, будто окаменев, и выглядывали из себя неподвижными безучастными глазами. И только дальняя дама неизвестно у кого требовала коменданта. «Библейские сцены», – подумал было Авенир Петрович и тут же устыдился своей глупой мысли. До тех пор, пока будут эти лица, которые бороздит морщинами коричневый свет, эти глаза, выглядывающие из-под капюшонов и башлыков, эти младенцы, прильнувшие к груди матерей, все это и будет и, собственно, есть библейские сцены.
Коменданта достать было мудрено, и вместо него явился молоденький вахтенный офицер, за которым матрос нес ручной фонарь.
– Да рожают тут, – пояснили ему, – и нет никого помочь.
Властный низкий недовольный голос какой-то женщины сказал из темноты с осуждением:
– Нашли, господи боже мой, где рожать! Точно кошки.
– Хоть в каютку снести... – неуверенно предложил кто-то из сидящих.
– Да куда же нести? – спокойно возразил кадет. – Нельзя нести! Головка уже показалась.
Авенир Петрович даже вздрогнул от этих слов, и в ту же секунду нечеловеческий рев рожающей женщины перевернул в нем все до основания. От ужаса происходящего Авениру Петровичу хотелось забиться под шлюпку, скрыться в еще более темной темноте, чем та, которая окружала его в ту минуту. Мужество покинуло его. Он предпочел бы оказаться в сражении, бороться со стихией, но такое простое естественное действие, развернувшееся в непосредственной от него близости и которому, вообще-то говоря, и сам он когда-то был обязан жизнью, привело его в состояние умопомрачения.
Вахтенный офицер помочь ничем не мог, и его пособничество выражалось наличием переносного прибывшего с ним фонаря, так что теперь фонарей было два. Он взял его у матроса, а того послал в кают-компанию за сестрой милосердия. Сила каждого очередного крика заставляла надеяться, что на этот-то раз страдание достигло своего предела, но вот проходило время, в недрах этой страждущей души ужас собирался с новыми силами и вырывался наружу, заглушая ветер с еще более страшным неистовством. И внимающие этим крикам люди настороженно поглядывали друг на друга, как если бы до этих минут не подозревали в себе таких жутких глубин мрака.
Авенир Петрович пытался понять, что именно делает кадет, но кадет просто стоял над рожающей женщиной и молча смотрел ей между ног, и смотреть на женщину Авениру Петровичу долго приходилось через широко расставаленные ноги кадета в нарядных яловых сапогах.
Звериные крики роженицы вынимали из него душу. И вместе с тем какое-то жадное любопытство заставляло его прислушиваться к ним, следя за всеми оттенками, переливами голоса, и вглядываться в это светлое пятно на палубе, где белели ее раскинутые ноги, а из ведра с теплой водой поднимался пар и тут же срезался, уносился ветром, дувшим как будто отовсюду. Фонарь, бывший в руках у вахтенного, светил точно на голый затылок в кровавой слизи, и Авенир Петрович был поражен после этого, как быстро выскользнуло все тело.
– Пожалуйте кортик, – обратился кадет к вахтенному офицеру. Тот послушно передал ему его. – Держите спичку. Одной не обойдемся, надо хорошенько прокалить, да задувает еще...
Перерезанную кадетом пуповину перевязали ниткой, которую ссудила строгая дама, неожиданно оставившая свою гадливость.
– Постойте, не так, – сказала она кадету, приняла ребенка за ноги, и мальчик закричал.
И этот крик первым же своим звуком упразднил тишину, и палуба заворочалась, загалдела, как ветер, по ней пробежал разрешительный вздох.