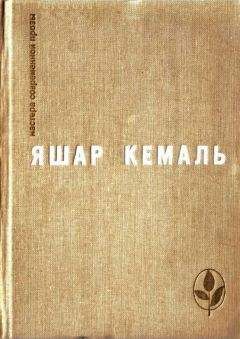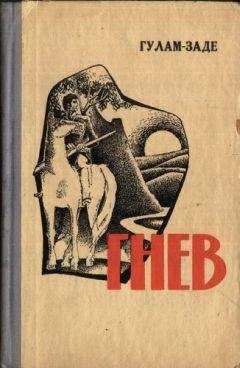Кемаль Бильбашар - Джемо
Ротный командир наш, капитан, сущим зверем оказался. Ему все едино было, кто ты — ефрейтор или унтер-офицер, лупил нещадно всех подряд, а уж если ты курд, лучше на глаза ему не попадайся, набросится как бешеный, до полусмерти отдубасит.
В первый же день, только я к нему явился, он меня спрашивает.
— Откуда родом?
Назвал я ему свою деревню.
— Из курдов будешь?
— Не-е, какой я курд! Мусульманин правоверный.
Посмотрел на меня волком, знать, известно было ему, что в тех краях курды живут. С той поры взял меня на заметку.
Бывало, на утренней поверке остановится возле какого-нибудь курда-бедолаги и давай его честить:
— Чего можно ждать от вас, сукины дети! Вы только сзади нападать ловки! Весь ваш род поганый такой! Диярбекир шейхам-бекам сдали! Какая на вас, подлецов, надежда! — Разорется да хрясть, хрясть курда по морде!
Уж как я старался, чего только не делал, чтобы не попасть ему под горячую руку! На боевых учениях и в казарме и днем и ночью так из кожи и лез, чтоб только не налетел он на меня. Грамоте вперед всех обучился. По истории, по географии ответить, товарищей выручить — тут я опять первый. Ни разу не похвалил меня капитан, ни разу на меня по-людски не глянул. Сказали мне, что таких, как я, он сам не бьет, а всю роту на них натравить норовит.
А тут еще такое стряслось, что он и вовсе взбеленился. Был у одного офицера в нашей роте в денщиках курд. Поначалу, пока у него сноровки не было, бил его офицер нещадно за каждую что ни на есть пустяковину. Тот и затаил на него злобу. Приметил, что у офицера дочь в поре, нагрянул к ней, когда она одна дома была, и обесчестил. Как узнал офицер, зашелся весь. Вцепился в того курда мертвой хваткой — еле вырвали. Ну, ясное дело, курда — под трибунал, и, сколько положено, ему навесили. Но после этого капитана нашего при виде курдов прямо трясти стало. В обеденный перерыв оставил всю роту в казарме. Выстроил нас на берегу Тигра. Вызвал из строя всех курдов. Приказывает: положить их под палки! Всыпали нам по пяткам столько ударов, что я и счет потерял. Ступни у нас раздулись, подняться не можем. Отволокли нас солдаты в казарму, а там капитан нас на гауптвахту посадил: не встаем, мол, при виде начальства, проявляем неповиновение. Заперли нас в казарменном подвале. Три дня мы там трупами лежали.
После этого случая все в голове моей помутилось. Одна дума на сердце камнем легла: бежать отсюда куда глаза глядят! Не слышать солдатского горна, офицерской ругани, не стоять на часах! Тоска по родине мне змеей в грудь заползла. Горы мои перед глазами стоят. Ляжешь в траву — тимьяном тянет, голова кружится… Тут я клятву себе дал: отсижу срок — и деру!
От дум своих невеселых песню затянул:
Кто на чужбине слезу мне утрет,
Кто приголубит, к сердцу прижмет?
В это самое время мимо окна проходил командир полка. Остановился, послушал. Видать, песня ему по душе пришлась. Приказал часовому отомкнуть дверь, входит. Часовой ревет: «Встать!» — а у нас не то чтобы встать, пошевелиться мочи нет. Извинился я перед командиром за себя и за товарищей, рассказал ему все. Полюбопытствовал он, за что нас так отделали.
— И не спрашивай, командир, — говорю. — Мыслимое ли это дело, чтобы невиновный человек искупал грех какого-то паразита? Ехал я служить — у меня душа пела. А теперь я что? Головешка со старого пепелища…
Молчит командир полка, желваками играет. Потом спрашивает:
— А кто из вас сейчас песню пел?
— Я, командир.
— По родным местам соскучился?..
Не дожидаясь ответа, повернулся и вышел.
Не прошло и двух часов, входят в камеру двое часовых, объявляют приказ: всех переправить в госпиталь.
Провалялись мы в госпитале пятнадцать дней. Уход за нами был отменный. И врачи и сестры душевно к нам подошли.
После выписки из госпиталя зовет меня к себе командир полка. Я пришел, каблуками щелкнул.
Смотрит на меня полковник ласково, как отец.
— Мемо, ты прямо как лев стал!
— По твоей милости, командир.
— Посылаю тебя в родные края на побывку. Доволен?
— Благодарствую, командир! Пусть аллах пошлет тебе долгую жизнь.
— После возвращения будешь служить при клубе.
— Слушаюсь, командир.
Приехал я домой. Все былое вспомнилось. Сенем передо мной ожила, как ножом по сердцу резанула. Стал у дяди проситься: пусти да пусти меня в горы, колокольцами поторговать. Обнял меня дядя.
— Не бей ноги впустую, курбан. Сенем твою давно продали.
Спина у меня холодным потом покрылась.
— Кому?
— Какому-то шейху старому. Возле самой границы живет.
Ноги мои подкосились, грохнулся я оземь. Сел дядя подле меня, гладит, приговаривает:
— Выкинь ее из головы, сынок. Роза сорвана — девка продана. Не одна она красавица на белом свете. Мы таких тебе сыщем, что Сенем им и воду подавать не годится. Вот увидишь.
Понял я: дядя от тяжких дум меня отвлечь хочет. Виноватым себя чувствует за то, что разлучила нас с Сенем солдатская служба.
Уж он таскал меня за собой повсюду, веселил меня, веселил. Все тоску мою развеять старался. Пустая затея! Ни саз с зурной, ни пляски с песнями не задели меня за живое. Без Сенем и горы родные для меня темницей стали, и красавицы все лицом померкли. Взялся я мастерить для коня командира седло да оголовье уздечки с колокольчиком, так время и скоротал. А дядя для него из оленьего рога рукоятку для кинжала смастерил.
Вернулся я на службу, поднес командиру полка свои подарки. Обрадовался командир.
— Спасибо, дружище, — говорит. — Ну, уж если ты так ласков к моему коню, быть тебе моим конюхом.
— Слушаюсь, командир. Пуще глаза буду беречь твоего коня.
— А по ночам в клубе будешь нести службу.
— Слушаюсь, командир.
Так и началась моя новая жизнь.
А конь был у командира полка знатный — чистокровный арабский скакун, гладкий, осанистый и с норовом. Пока песню ему не затянешь, ни за что под скребницу не встанет. Мало-помалу привык ко мне конь. Так и ходит за мной по пятам, как ягненок за овцой. Изюм у меня из рук брал. Крикну, бывало: «Сент!» — тут же прискачет. Будь хоть на цепи, порвет цепь и прибежит.
Налью ему с вечеру чистой воды, засыплю в ясли корму, запру его на конюшне, а сам — в клуб. Солдатскую форму с себя скину, клубную надену — из белого алеппского шелка, у ворота пуговицами да шитьем отделана.
В клуб офицеры вместе со своими ханым ходили. Пили там, ели, а под конец недели еще и плясали. Загудят музыканты в трубы, загрохают в барабан — джазом это называется по-ихнему, — хватают офицеры своих ханым в обнимку и давай плясать. В такой раж войдут, что до утра готовы скакать. А то вытолкнут одного на середину, он им поет или пляшет.
Мой командир тоже по вечерам туда хаживал. С дочкой придет, с женой. Сядут они на почетные места и смотрят. Сам он никогда не плясал, только на круг всегда первый выходил, чтоб молодежь за ним пошла. Сидит, на молодых любуется. Чуть кто с круга сойдет, пригорюнится в уголке, он его расшевелить старается, со своей дочкой танцевать велит.
А больше всего ценил он песни и пляски, что у нас в народе любят. Каждый раз меня петь заставлял. Затяну я, бывало, нашу протяжную, а он, сердечный, плачет. Клянусь, не вру! Вот диво-то какое! Командир полка, а плачет, как ребенок малый!
По праздникам балы устраивали. Жены офицеров приходили на балы расфуфыренные. В такие дни офицеры на выпивку, на закуску не скупились. И городские частенько с ними пировали. Одного я в толк никак не возьму: жены у них одна другой краше, а мужьям это словно бы и невдомек. У него жена в обнимку с другим скачет, а он и бровью не поведет. Совсем никакой ревности у них нет, подумать только!
Среди женщин выделялась на тех балах одна краля писаная, Мюневвер-ханым. Муж у нее судьей был. После его смерти она к отцу переехала.
На каждый бал являлась Мюневвер-ханым в новом бархатном кафтане. Волосы черной гривой пышной набок зачешет, на грудь розу приколет, глаза сурьмой подведет — у всех офицеров в башке мутится. На круг выйдет — все глаза к ней прикованы. Сигарету в руку возьмет — офицеры наперегонки со спичками к ней бегут. У меня самого при ней руки-ноги отымались. Я пою, а у ней грудь так и ходит ходуном. А в глазах тоска стоит. Такие глаза у тех бывают, кто любовь познал. Плачут глаза, только слезы не по лицу, а прямо в сердце текут, не видать их. Пою я, и вот лицо Мюневвер-ханым передо мной расплывается. Чудится мне — сидит передо мной Сенем — волосы в сорок косичек заплетены, на лбу монетки блестят, и песня моя к ней рвется… Больше всех Мюневвер-ханым мне хлопала.
В обычные дни офицеры любили порой за рюмкой посидеть, посудачить. За долгий вечер никого не пропустят, всем косточки перемоют. Кто любовницу завел, кто взятки берет — все им ведомо. Чаще всего разговор на Мюневвер-ханым сворачивал. Белье у нее из бархата… В низу живота родинка… Я только рот разевал от удивления. И откуда они все знают?