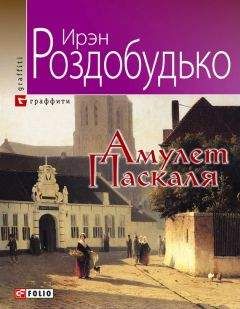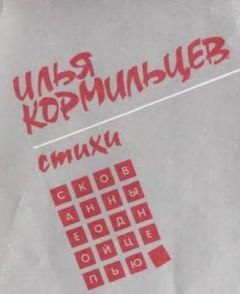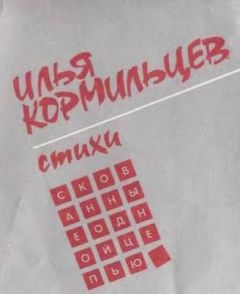Иван Сабило - Предел прочности

Обзор книги Иван Сабило - Предел прочности
Предел прочности
Только в милицейской машине я немного пришел в себя, но вместо облегчения остро ощутил ужас того, что произошло. Сжав голову руками, я сидел на узкой скамейке рядом с пьяным парнем и видел, как в зарешеченном окне мелькают темные ночные деревья, дома с окнами до третьего этажа и яркие фонари, свет которых отсюда, из машины, казался размазанным и размытым.
— За что тебя? — придвинувшись ко мне, спросил парень.
Я промолчал, решив, что мой сосед никакой не пьяный, а подставная милицейская утка, цель которой узнать «правду».
— А меня я знаю за что, — сказал он. — Напился, скандалить начал. Только не помню, съездил я по морде той твари или нет.
Машина приостановилась у перекрестка и помчалась дальше.
Я знал, за что меня забрали. Все, все складывалось нынешним вечером так, чтобы меня заключили под стражу. Есть старинный фильм «Плата за страх», а мое нынешнее положение — плата за радость. Да, сначала радостная новость, затем встреча с юной красавицей, потом вранье матери, потом безудержное питье и как логический пик распада — ресторанный швейцар. Все, все перемешалось во мне этим днем и породило несчастье. Да, было: по дороге из редакции домой познакомился с девушкой, пригласил в ресторан, а там, напившись и потеряв над собой контроль, отнял деньги у швейцара, который то ли чаевые подсчитывал, то ли собирал за что-то отдельную плату. Отнял, потому что в голову стукнула блажь, что он собирает с людей мзду себе в карман. Отнял, чтобы раздать всем, кто ему незаконно уплатил. Таков мой пьяный протест против всевластной коррупции, против хищников, которые безудержно плодятся и нет им укороту. А когда возник скандал и меня назвали грабителем, я, вместо того чтобы вернуть деньги и попросить прощения за неудачную шутку, заявил, будто бы до этого дал швейцару пять тысяч одной купюрой. Чем вызвал гнев швейцара и чуть не довел его до бешенства. А тот, из «Мясного отдела», что как раз покидал со своей девушкой ресторан, презрительно усмехался, глядя на меня и на двух стороживших меня милиционеров.
Постепенно в моем нетрезвом уме отпечатался весь прожитый день, и от ужаса губы онемели и стали как будто не моими. Голова трещала не столько от выпитого, сколько от страшных видений. То грезились деньги, что как черви кишели на столе, то переодетые милиционеры, то вдруг прямо сюда, в машину, вплывала тюремная камера и я входил в нее узником, под конвоем.
Пьян я или не совсем? Как я выгляжу со стороны? Поверили мне там, в комнате, где из моей руки забрали деньги швейцара, или нет? И особенно когда я сказал, что до этого дал швейцару пять тысяч и ждал, когда швейцар вернет их мелкими купюрами? Нет, не поверили. Иначе отпустили бы. А раз я в машине, значит, все худо… Как назвал меня тот черный человек? «Вы совершили открытый грабеж», — сказал он. Значит, я — грабитель?! Но как могло такое случиться? До сих пор мне в голову не приходило грабить. И было ли это? Может, я вижу кошмарный сон или у меня уже белая горячка?
Да, было, было. Все так и было, и я дал фору, которую вряд ли теперь отыграю. Но зачем, зачем такое испытание? Который час? Ого, половина первого! Что делает мама? Не спит, ждет меня. Обещал вернуться через два-три часа, а сам… Отняли мобильник, не позвонить.
Парень привстал и шагнул к выходу.
— Еще рано, — сказал я.
— А, мент, я тебя узнал. Щас рыло начищу, тут никто не видит, не докажешь. — Он замахнулся, но я, будучи пьян не меньше, чем он, все же перехватил его руку, дернул на себя и усадил на скамейку:
— Не делай себе хуже. И мне.
Кажется, пьяный сосед ждал именно таких слов. Он успокоился и затих. А я подумал, что к моей беде подверстался еще этот злодей и я должен ему уделять внимание. Везет мне. Войду в метро — тут же рядом окажется пьянчужка и дышит в лицо перегаром. Иду по улице — навстречу «крутой», или «крутая», и прямо передо мной швыряет на тротуар окурок. Что мы за люди? Здоровы ли? Всюду ложь, лицемерие и патологическая корысть. Не жизнь, а травмы, которым нет конца. Отсюда стрессы, развал психики, дикие поступки — ни объяснения им, ни оправдания. Как у меня сегодня…
Машина продолжала мчаться по городу, истерично завывая и освещая улицу нервным, синим светом. Забыл, как ее называют…
Жена узнает, что я ограбил швейцара, обрадуется. Дочка подрастет, ей объяснят, какой у нее отец — пьяница и грабитель. Фу, как пошло! А что будет в редакции? Скажут, мало того, что милиция превратилась в свой антипод, так и журналисты решили не отставать…
…Как же ее называют? Да, синеглазкой, как девушку. Но у девушки два глаза, а не один, как у циклопа. Так и надо называть — циклоп. Синий крутящийся глаз и оглушающая сирена должны наводить ужас на тех, кто еще не совершил преступления. А главное, создавать иллюзию, что таких машин много. Они виднее других и запоминаются своим раскрутившимся огнем. Матерого преступника такой безделицей не напугать — матерый преступник не боится ни синеглазки, ни самой милиции…
О чем я? Какое теперь значение имеет синий, мертвящий огонь? Что он освещает? Вот днем — солнечный свет в окнах редакции, рабочая обстановка. За столами — литсотрудники, озабоченные вычиткой свежего номера. Возле меня, закинув ногу на ногу и бросив лопатки на спинку стула, сидит молодой, щеголеватый автор статьи «Переворот в упор». В ней о том, как тренеры бассейна разоблачают жулика-директора, который бессовестно кладет в свой карман немалые средства, поступающие от любителей плавания. Но разоблачают не потому, что борются за справедливость, а из мести, что директор с ними не делится. Я ему говорю, какую правку нужно внести в его статью, чтобы мы ее напечатали. Еще говорю, что переворот в упор — гимнастический термин, а у него в статье — пловцы. Здесь больше подойдет название «Бурный поток» или «В тихом омуте». Или что-то в этом роде. Он вертит между пальцами длинную сигарету, молча кивает, соглашается, хотя ждет, что мы сами внесем необходимые изменения.
— Все, идите и работайте, у вас получится, — сказал я. — И незачем приносить статью в редакцию, пришлите по электронке.
Автор ушел. Заелозила, зазвучала на столе черная планка мобильника. Я взял и услышал голос редактора издательства Марии Малышкиной. Она сообщила, что моя повесть одобрена и будет напечатана в сборнике «Приют». Я стал благодарить, но она перебила и сказала, что главный редактор предлагает мне в кратчайший срок собрать книжку и со мной заключат договор…
Я оглянулся на сотрудников — слышат ли, что слышу я? Нет, не слышат, а потому тихо сказал:
— Спасибо, Мария, уже приступаю. Меня не часто радуют, а ты…
— Ну, ну, перестань. Это тебе спасибо, потому что повесть написана хорошо. Про тебя говорят, что ты наш новый Куприн. Я сама рада…
Я отключил телефон и прошелся по комнате, улыбаясь и потряхивая головой. У прибитого на стену зеркала остановился — густоволосый чуб на лбу, темная, курчавая борода, темные брови, карие глаза; на верхней губе едва заметный косой шрам — удар автомобильным бампером, когда я из-под колес машины спасал мальчишку. Все тогда обошлось: и парня спас, и сам остался живым. Я часто вспоминаю тот случай и радуюсь, что он есть в моей жизни.
— Что случилось? — вскинул густые брови долговязый, носатый Гена Кусков.
— Ничего особенного, повесть приняли. И договор на книгу будут заключать, — сказал я, понимая, что далеко не каждый сотрудник может сказать о себе то же самое. Некоторые из них копят деньги на издание своей книги, а тут сам издатель предлагает — бесплатно!
— Повесть — хорошо. Значит, выйдет. Но вот насчет договора не особенно мечтай. У меня их три, и трижды я был счастлив. А книжки до сих пор нет. Когда моя незабвенная тетка Наталья редактировала Михаила Дудина…
Гена Кусков открыт и словоохотлив. У него множество родичей. Они отличаются от моих родичей ярким складом характера, масштабностью дел и багажом, в котором живым грузом лежит память о выдающихся людях наших дней. И хотя Кусков забавен, рассказывая о том, что поведали ему родственники и что он сам насочинял про них, я не стал его слушать.
Вышел из редакции и сел в сквере на скамейку. Был один из последних дней сентября. Безветрие. Неслышно падают желтые листья. Я пристально вглядывался в крону берез, пытаясь обнаружить хотя бы один листок, за которым смогу уследить в миг его отрыва от ветки. Нет, не удавалось. Я сидел и думал, с какой радостью расскажу сегодня маме о звонке редактора. Она дома, ждет меня, а я и билет ей на поезд уже купил, в котором послезавтра она отправится домой. Потом приедет Алена, тоже обрадуется такой новости, но воспримет ее спокойно. Она давно поверила в меня как в литератора. А прочитав повесть, которую сейчас собирались печатать, даже поцеловала мне руку — настолько мое новое сочинение пришлось ей по душе. «Будет неплохой гонорар», — скажу я. «Вот и хорошо, — кивнет она. — Ты хочешь ноутбук, значит, купим». Она еще не знает, что мама дала мне денег. Я отказывался, но она не слушала, открыла верхний ящик письменного стола и положила туда три красные пятитысячные купюры. «На костюм, — сказала она. — У тебя такая работа, с людьми встречаешься, пишешь про них, ты должен выглядеть опрятно». — «Спасибо, но у меня всего хватает. Лучше давай что-нибудь купим Алене. Ей не часто преподносят подарки. Ты же знаешь, ее родители умерли, когда она была маленькой. И хорошо, если подарок будет от моей матери». «Не возражаю, — кивнула мать. — Но, думаю, тебе нужно вернуться к жене. Там твоя дочка без отца. А ты хороший отец, добрый, умный. Надо помириться с женой и жить в семье. Дочку, сынок, любить, воспитывать надо». — «Нет, мама, мне их дом противопоказан. Мне делается плохо, когда я слышу разговоры о мельхиоровых ложках, о телесериалах, о варенье, которого соседка Глаша наставила пятьдесят девять литров, а соседка Илона и того больше. Хочется домой…»