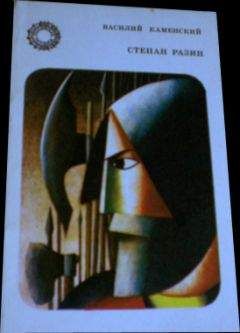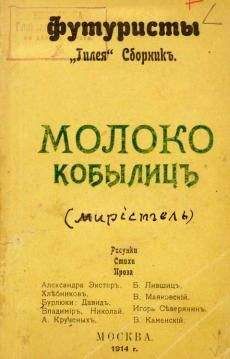Василий Каменский - Василий Каменский . Проза поэта
Но голытьба почитала имя атамана священным и ненарушимым, посланным волею судьбы — всенародным избранием.
Тяжким бременем легло это избрание.
Часто Степан уходил бродить один с раздумьем — как быть…
Он взбирался куда-нибудь на обнаженную грудь одинокой горы и грустинными часами думал свои беспокойные думы.
Степану хотелось просто взять и уйти, скрыться, исчезнуть.
Хотелось чудом превратиться в высокую гибкостройную сосну на южном склоне вершины приволжской горы и кудрявыми, смолистыми ветвями жадно вбирать светорадостный аромат безмятежного дня.
Или еще червонным песком лежать у водокрая на солнце, лежать и мудрым покоем улыбаться в небесную бирюзу и изумрудным ветви нам над головой, и — может случиться — осторожным следам кулика или чайки.
Но уйти было трудно.
Главное — жаль нестерпимо удалых ребят, что на вольной воле, на приволье волжском, на безудержных лугах молодости выросли могучими богатырями на славу без берегов.
А жаль удалых оттого, что много еще впереди лежало дорог непройденных, много дела было не сделано, много силы не сломлено, много обетов не исполнено, много правды не проложено.
Страшился Степан, что без него затихнет вольница, как затихнет вода без ветра буйного.
Опасался Степан, что лютые враги-бояре трусом его объявят в грамотах и бирючам накажут базарному народу орать.
Нет, нельзя было уйти от голой вольницы.
Не думал, не гадал Степан, что сотворится такая неслыханно-чудесная жизнь, бурным океаном разыгравшаяся, радужной сказкой расцветившаяся, в волшебном круге закружившаяся.
Смерти и жизни, горести и радости, молитвы и проклятия, песни и виселицы, пиры и бойни, кистени, и белые девичьи руки, и «сарынь на кичку», персидские ткани и русские сарафаны, добро и жестокость, щедрость и жадность — все сплелось пестрыми нитями в один ковер жизни.
И не стало различий: ночь или день, сегодня или завтра, жизнь или смерть.
Все равно! В отчаянно-пьяном вихре искрами замоталась буйная жизнь. Разгулялась. Разветрилась.
Без памяти. Что будет!
Не остановишь.
Хватило бы только головы на плечах, хватило бы ума-разума начатое победностью завершить, — вот чем томился атаман, да и было от чего умаяться, призадуматься.
Денно и нощно отовсюду стекались гонцы-вестники: кто с Белого моря, кто из Малороссии, кто из Москвы, кто из Сибири, кто из степей калмыцких, кто из Казани, кто с Урала.
И каждому гонцу надо было наказы давать, да знать, что где происходит, да за царскими войсками следить, да помощников рассылать с толком, с расчетом, да казной ведать с береженьем, да пушки, оружие, порох, топоры, лопаты, коней рассылать, да принимать послов от татар, калмыков, киргизов, уральских казаков.
Да снаряжаться на Симбирск, Казань, Нижний, а оттуда или в Москву, или в Астрахань — всюду призывно лежат пути, всюду ждет взвихренная голытьба.
Крепко думал Степан, а еще крепче взмахнул кистенем:
— Прочь с дороги, раздумье! Прочь! Ой, да что это с моей головой! К лицу ли атаману, голытьбой нерушимо поставленному, по распутьям бродить? Прочь! Время не терпит, время зовет. Слышу, чую. Шире, душа, распахнись! Раззудись плечо! А ну, ударь, — эх, ударь, да ударь кистенем по Симбирску!
Перекликно встрепенулась бывалая в полетах бесчисленная стая:
— Сарынь на кичку! В Симбирск!
Раскачался буйным вихрем, разбежался необузданным, красногривым степным конем по бескрайным степям, размахнулся Степан.
— Эй, держись башка молодецкая!
— Ой, и хабба!
— Ой, и вва!
— Расплечись плечо непочатое.
— Крепи!
— Раздувай паруса!
— Хабба!
— Ннай! Ннай! Ннай!
Всколыхнулась волношумным морем яростным понизовая вольница, разлилась раздоль бесшабашная, разгайная, неуемная.
Раскатились под гору колеса молодости.
— Не удержишь!
— Берегись!
— Разом перескочим!
— Эх, и ма, и ма!
— Ори! Свисти! Мотри-во!
— Раздобырдывай!
— Шпарь!
Сотни отчаянно-молодых голосов звонили колокольным звоном по волжским, стройным берегам, отражаясь в кустах у воды серебряной звенчальностью.
Глубинно голубело небо голубелью.
Бирюзово грустилась синедымная даль.
Степан улыбался мудрой тишине с гор и думал о чайках, играющих с солнцем.
— Ребята, на струги!
И пока удальцы отвязывали снасти, снаряжались в путь, кричали, возились, Степан слушал, как весла, ударяясь о палубы, гулким деревянным стуком наполняли воздух, радуя трепетно движения. Слушал и пел:
Ребята, на струги!
Ветер попутный
Разгонит паруса и печаль.
Быстрыми крыльями
Искрые соколы
Развеют весельем умчаль.
Эй, рулевой!
А там на раздолиях
Волга укажет,
Где нам положено счастье найти.
Молодость с нами,
Да воля разгульная —
Верные наши пути.
Эй, рулевой!
Смолк Степан и упорно уставился со всей своей огнезарной любовью на упругие струги, стройно расснащенные, на волжскую водную дорогу, призывную, обетованную, на разгайных удальцов, отчаянных, веселых, сильных, на все вокруг молодое, жаждущее.
Подумал:
— На бой веду, а они будто на праздник снаряжаются. Решил:
— Нет! Не уйти от них.
Симбирский путь
Звездной ночью Степан с двумястами стругов да с тысячью конницы подступил к Симбирску.
В кремле засел со стрельцами окольничий Иван Милославский.
Симбирск укреплен двойным укреплением: на вершине горы кругом стоял высокий кремль, а за кремлем кольцом в полгоре следовал посад, обведенный дубовым частоколом и рвом. В посаде острог жил.
В городе стоял гарнизон из четырех стрелецких приказов с полсотней пушек и двухтысячное число дворян и детей боярских из Симбирского уезда и близких городов, сбежавшихся в надежную симбирскую крепость от нашествия Степана.
Выйдя из стругов, Степан расставил ночной караул, а сам с есаулами Васькой Усом, Черноярцем, Фролом и прочими пошел пересылаться с посадскими симбирцами.
Навстречу Степану вышли посланцы с хлебом-солью от посада симбирского и ударили челом, что посадские жители передаются в верные руки понизовой вольницы, и указали на те прясла стены, где утром симбирцы будут ждать молодецкую дружину; и указали еще на острог, где заточенные ждали от Степана воли; и поведали Степану, что от казанского воеводы князя Урусова в кремле ждут сильной помощи, посланной под началом окольничьего князя Юрия Борятинского, идущего правобережным сухопутьем, и что, говорили, в войске Борятинского идут из Москвы рейтарские наемные иноземного строя конные полки.
Степан отпустил посланцев, а Ваське Усу, Черноярцу и Фролу совет дал гнать к чувашам, черемисам и мордве за подмогой — благо они сами давно насылались.
Есаулы погнали.
Степан пошел ночевать на свой струг Сокол.
Ночь раскинулась густосиним шатром с наливными звездами.
Плёско плескалась вода о борты струга.
Ночные птицы кричали тревожно.
Долго не мог уснуть Степан.
А когда уснул, — увидел беспокойный сон: будто странником с посохом подходит он к своей черкасской избе, у ворот стоит Сонюшка — дочка его любимая-ненаглядная и плачет, смотрит на отца и плачет. Степан будто обиделся, что Сонюшка плачет, а не радуется, не прыгает, не бросается к нему на грудь, и вся неласковая, и будто говорит: «Ты, батько, опять не зайдешь домой, опять пройдешь мимо, мать тоже перестала любить нас, мы с братиком решили оборотиться в диких гусей и улететь».
— Где мать Алёна, — спросил Степан у Сонюшки и услышал чей-то совсем чужой, насмешливый голос: «У Корнила Яковлева — на тебя жалуется».
Потом будто Степан заметил, что у него на боку голова и волосы седые, долгие, и холодно, снежно на душе, и одиноко-безутешно. И Сонюшки нет, никого нет.
Проснулся Степан от железного шума: то удальцы собирались на приступ. Васька Ус готовил к бою.
— Выкатывай пушку!
— Примай!
— Кидай топор!
— Скорей, леший!
— Седлай коней.
— Эй, кремлевые, держись!
— Стой, раздавит.
— Редька!
— Курмалай!
— Ссаживай.
— Чаль!
Солнце рождалось красным расцветом.
День обещал много жаркой пальбы, много крови. Степан схватил саблю, сунул кистень за пояс, накинул красно-огненный кафтан и разом поплыл на шитике на берег.
Через час все удальцы двинулись.
Конники завели песню:
Ой ли, нам, соколикам,
Да воля не дана,
Ой ли, мы не молоды
От крепкого вина.
Удальцы подхватили яро, со свистом, с гиком: