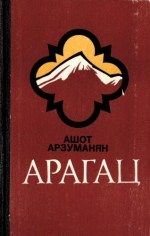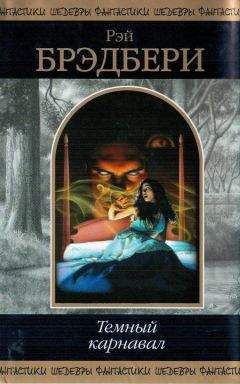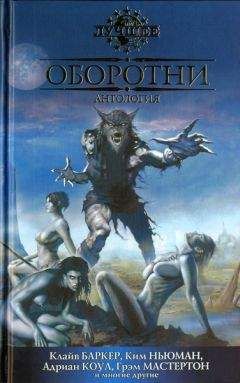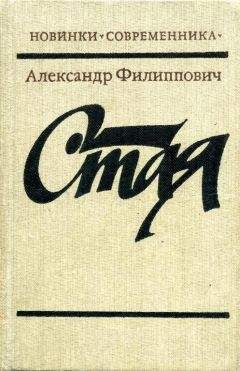Ихил Шрайбман - Далее...
«Что же будет дальше, а?» Извечный папин вопрос. Вопрос и себе, и миру, когда ребенок лежит больной, когда ребенка, не приведи господи, теряют, когда ребенок подрастает, когда долгов выше головы, когда все идет вкривь и вкось, когда муторно на сердце — а когда отцу не муторно на сердце?
Можно так все спрашивать и спрашивать, это «дальше» все дальше и дальше передвигать, до… до… самого последнего дня — отспрашивал, отдрипал жизнь, как он сам, отец, любит говорить.
Этот вопросик свой он мне больше не задает. Он уже молчит. Пока так пока. Я выполнил его желание и пока, пока что, пока я еще здесь, дома, нагрузил на свои плечи (чуть не сказал: на свой горб), как нагружают на верблюда, «уроки». Целых десять — двенадцать уроков. Десять — двенадцать домов (опять «дома», «пороги»), куда я захожу каждый день, каждый раз на три четверти часа, чтобы сидеть и заниматься с маленьким ученичком. Я сижу, разумеется, не с указкой в руке и не с ермолочкой на голове, как старый ребе. Но по мне, так оно выглядит той же Ентой, только в другом платке. Наоборот: я еще и хожу к ним, отношу еще каждому в отдельности свой товар на дом. Точно такие же «уроки», такое же «учительство» тащил я на себе два года назад, три года назад, до того как вырвался в большой мир. И удрал я, как мы хорошо знаем, в Черновцы, в семинарию, якобы совершенствовать себя как учителя, чтобы из такого вот учительства вырваться. Сейчас, после того как произошло то, что произошло, и я уже из семинарии тоже вырвался — ну, пусть меня вырвало, — хожу я лишь опять здесь, в Рашкове, с утра до вечера в десять — двенадцать домов и делаю лишь опять то же самое, что делал здесь два года назад, три года назад. Хорошенькая история. Хорошенькое дальше.
Но если подумать, так не страшно.
Там, в большом городе, я разве не давал уроков? Больше того: я помню тот счастливый день, когда нашел там таких вот пару уроков. Правда, там я давал уроки между прочим, так сказать, чтобы содержать себя, не голодать и иметь возможность и дальше делать главное. Здесь, вижу, они, уроки, — главное. С утра до вечера хожу я в эти десять — двенадцать домов, тащу на себе эту нелюбимую поклажу, как мне наверно присуще, не фальшивя. И даже вкладываю в это, как бы то ни было, сердце, мысль. Никогда никуда не опаздываю. Делаю все, чтобы ученики меня любили. Чтобы ждали с нетерпением. Одним словом, чувствую, что эта нелюбимая ноша, эта гора на плечах, может меня потихонечку-понемножечку просто раздавить.
Не страшно оно вот из-за чего. Во-первых — пока; во-вторых — помочь все-таки отцу расправить немножко плечи; в-третьих — как бы то ни было, это занятие, то есть не слоняешься впустую, не бездельничаешь.
Кроме того, может, так вообще лучше, а? С Рашковом, я знаю, не играются. Раньше, два года назад и три года назад, меня мало трогало, что люди будут говорить. Наоборот: чем худшее люди говорили, тем это лучше, думал я, для меня. Не то чтобы из какой-то зловредности, а как хороший признак, что прав я. Что вся кривизна мира не выправляется только потому, что люди предпочитают скорее оставить грязь, чтобы она стояла так, как она стоит, чем чтоб кто-нибудь тронул ее, всколыхнул. Хорошо ли, плохо ли, горько, кисло, но пусть уж будет так, как есть. И чтобы никто не хотел что-нибудь переставить, перевернуть, лучше сделать. С рашковскими мудрецами не играются. Два года назад, когда я однажды на театральной афише вывел красивыми печатными буквами слово «суббота» не по-древнееврейски — без гласных, а просто, как мы говорим, на обыкновенном идиш — что-то вроде: «Сегодня, в субботу, такого-то и такого-то, там-то и там-то, будут играть пьесу «Деревенский парень», так целая толпа окружила наш дом и требовала у отца, чтобы он им меня выдал. Их не радовали ни красиво разрисованная афиша, ни театр, которого уже давно в Рашкове не было, а сегодня, в субботу, будет. Слово «суббота», которое было написано не так, как его до сих пор писали, вывело их из себя. Они это называли «осквернение». Их приход в святую субботу с палками в руках, их желание в святую субботу разорвать меня на куски, это, разумеется, не называлось «осквернение». Отец стоял на пороге бледный, с белыми дрожащими губами, но не испугался, был на моей стороне — крикнул в толпу: «Дикари!» Я со смехом выбрался из дома через заднюю дверь, поднялся к Жене, и лишь там, вместе с Жениной матерью, мы все хорошо посмеялись. Вечером все-таки в театре стояли чуть не друг на друге. Я в «Деревенском парне» играл Янкеля Бойле, Женя — Наташу, публика чуть не разнесла зал, хлопали и хлопали. И кажется, среди хлопавших было несколько «дикарей» тоже. Но тут уже скорее работала сила театра, чем слабость рашковской уступки. Рашковец как раз не любитель вот так-вот, в два счета, уступить. Есть в рашковце такая закоренелая упертость, что не уступит тебе, хоть стой на голове. Тогда, однако, два года назад, меня это мало трогало. Наоборот, я даже рад был этому.
Точно так же, можно сказать, меня мало трогало и даже радовало, когда однажды, на другой день после Судного дня, разнесся слух, что несколько наших ребят вчера, в самый день суда, когда рыба дрожит в воде, не только не постились, как постятся все евреи, но еще пошли к крещеной Гитл и объелись трефной колбасой. Назло, значит, царю царя царей и назло целому городу евреев. Был это пустой слух или не пустой, но я рад был видеть, как эти «дикари», божьи стряпчие, как зовет их Менделе, бесятся, как они готовы резать, душить, стрелять, вешать, забрасывать камнями, топить, травить, сотворить все казни, перечисленные в главной молитве Судного дня, в общем, показать, как выглядят они вместе со своим милосердным богом. Правда, в этот раз отец тоже ходил весь вечер но дому надутый, не смотрел в мою сторону и ни слова в мою сторону не произнес.
Теперь, после Черновиц, эти вещи выглядят для меня местечковым мальчишеством. С Женей я больше не встречаюсь. Или Женя не встречается больше со мной. Я ведь уже называюсь сидевшим, а Женя как-никак называется порядочной дочерью, девушкой на выданье, которая должна не сегодня завтра идти под венец. Даже просто в театре играть ей уже не к лицу. От Малии до Жени такая же даль, как между всем тем, что я делал там, в Черновцах, и этими мальчишескими выходками, которыми я упивался здесь два года назад и три года назад. Я вижу себя более взрослым, углубленным в себя, вдумчивым. С друзьями моими ни вечером на низ улицы, ни даже в субботу днем в Гитманихин сад или в Климауцкий лес на прогулку я больше не спешу. Трех моих прежних друзей из «Главы Рашков», Вигдора, Нисла и Нюки, в местечке нет. Нюка служит. Вигдор и Нисл работают оба в Яссах, один портняжит, другой столярничает. Арка и Фридл, правда, хорошие, понятливые ребята, сознательные, как тогда говорили, уже, наверное, немножко делают что-то в местечке, и оба одного со мной возраста или, может, даже на год или два старше, но мне они кажутся совсем зелеными, совсем молодыми, или им кажется, что я держусь старше и важнее — настоящего разговора и большой дружбы что-то не завязывается между нами. Кроме того, я хорошо помню, что называюсь уже сидевшим. Выпустили меня из тюрьмы пока, до процесса. Может, мне до тех пор нельзя было уезжать оттуда. Никто этого здесь не знает. Я сам тоже притворяюсь незнающим. Ради чего же опять шуметь, горячиться, бросаться в глаза? С Рашковом, мы ведь сказали, не играются. Так может, вовсе и не плохо, что я тащу на плечах эти несколько добропорядочных уроков моих, хожу с утра до вечера каждый день в десять — двенадцать домов, каждый раз на три четверти часа, чтобы добропорядочно, как ни в чем не бывало, сидеть и заниматься с маленьким ученичком. Может, уговариваю я себя, так лучше?
Что же будет дальше, а?
Я напеваю эти пять слов на заунывный мотивчик. Вдруг, ни с того ни с сего. И шести-семилетний ученик мой, Пейси Ривилиса младшенький, Хаимл, поднимает на меня от тетради глазки, перестает жевать кончик своего язычка, смотрит на меня секунду, трудится дальше над предложением, с головой уйдя в тетрадь, и точно на такой же заунывный мотивчик, наверно передразнивая меня, повторяет тихо сквозь зубки, как дальний-дальний отголосок: что-же-будет-даль-ше-а?..
Отец не задает мне больше свой извечный вопрос. Я задаю его себе сам.
5Я опять должен свернуть немного в сторону и здесь вот, если уж зашла речь о прежних рашковских друзьях и дружках моих, посвятить пару страниц Хоне Одесскому.
Я хочу, чтобы эти страницы стояли отдельно, выделялись, как памятник его недолгой жизни. Отдельный памятник полагается ему.
Я и в сторону сворачиваю, и перепрыгиваю на десяток лет вперед.
В украинском местечке Кодыма, совсем недалеко, на той стороне Днестра, где-то между Балтой и Бершадью, стоит в лощине высокий мемориальный камень с несколькими сотнями выбитых имен. Здесь, в яру, у склона горы, лежат расстрелянные и заживо погребенные в те первые недели войны, когда гитлеровские убийцы прошли через Кодыму.