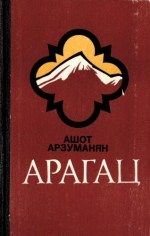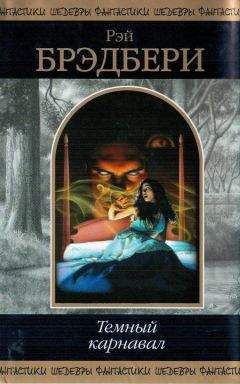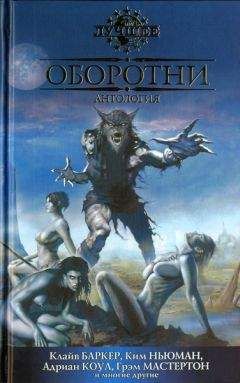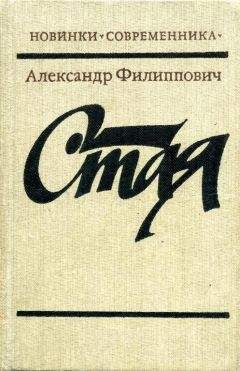Ихил Шрайбман - Далее...
Весь Рашков эвакуировался. Весь Рашков. Без преувеличения. И стар и мал, дети и взрослые. Оставили все нажитое, домишки и все, что в домишках, чердаки и подвалы, даже небогатую постель, даже горшок супа, что варился на припечке. Кто на подводе, кто пешком, кто переправился на пароме, кто на лодке, а кто просто переплыл. Одним словом, весь Рашков пошел за Хоной Одесским. Сделали то, что Хона Одесский посоветовал. То есть кому советовал, кого просил, а кого, говорят, даже стращал, хватал за грудки, честил, что и вовсе уж не было на него похоже, всех предков. Перед кем перед кем, а перед Хоной самые большие рашковские упрямцы стали мягкими, как тесто. Такую силу имел в себе Хона. Особенно в такое время, в таком горе, когда самые большие упрямцы сами не знали, надо ли упрямиться на «нет» или, может, правильнее упрямиться на «да». Остались только пятнадцать — двадцать стариков и старух. Собрались все в одном доме. Старики — завернувшись в свои талесы, старухи — с молитвенниками в руках. Такими и застали их, бедняг, их убийцы, румынские фашисты, выволокли всех на улицу и прямо так, стариков завернутыми в талесы, старух с молитвенниками в руках, сбрасывали по одному в глубокий колодец, засы́пали ими колодец доверху, забили потом крышку гвоздями.
Весь Рашков эвакуировался, но мало рашковцев спаслось. На подводах и пешком, медленно едущие и тяжело идущие, люди, которые до тех пор никогда в своей жизни из местечка никуда не трогались, были в конце концов настигнуты, захвачены немецкими убийцами в тех местах, где они остановились, и — кто сразу, через несколько дней, кто позже, дальше — уничтожены были там же на месте, или потом, на дорогах обратно, или месяцы спустя на дорогах в Транснистрию, или еще позже, в самих транснистренских гетто.
Большая часть Рашкова, самый цвет, можно сказать, — молодежь, молодые люди — лежит под высоким кодымским мемориальным камнем. На мраморной плите, прикрепленной к нему, перечислены эти рашковские герои. Первым среди них, сверху, стоит Хона Одесский.
Приписать Хоне Одесскому особого, необыкновенного геройства я не могу. Точно, как и что произошло, некому было мне рассказать. Говорят, у рашковских ребят нашли оружие: винтовку, якобы пару гранат. Как попало к рашковским парням оружие? Большой стрелок он был, Хона Одесский? Говорят, рашковский мальчик набросился на немецкого офицера и сорвал с него погоны. Просто так, значит, набросился на немецкого офицера и сорвал погоны? Нашлись даже умники, которые сказали, что виноват во всей этой истории таки он, Хона Одесский. Сразу, как только все оказались захваченными в Кодыме и как ни есть разместились по домам, где-то в школе, в пустом бараке, Хона Одесский ходил и бунтовал народ: не надо молчать, надо начинать что-то делать, не надо сидеть сложа руки. Может, было еще слишком рано, говорят умники. Они ведь пока никого не трогали, так надо было их трогать? Я тоже говорю, что виноват во всей этой истории Хона Одесский. И именно поэтому посвящаю я его светлой памяти эти страницы. Ставлю рядом с кодымским мемориальным камнем маленький отдельный памятник.
Одна женщина, одна из немногих оставшихся в живых тогда, в Кодыме, и потом, после Кодымы, рассказывала мне, что она стояла на горе и своими глазами видела, как внизу, в лощине, расстреливали рашковских ребят. Отцов и матерей, жен, сестер, родных и просто рашковцев убийцы согнали наверх, на гору. Чтобы все всё видели сверху своими глазами. Хона Одесский стоял перед солдатами с нацеленными ружьями, выдвинувшись немного вперед. Он начал вдруг что-то кричать или петь что-то. Точно разобрать было нельзя. Но, кажется, петь. И кажется, даже слова «Это есть наш последний…». Потому что ружья начали стрелять как раз тогда, когда остальные ребята уже тоже кричали или пели. И этот крик или это пение, перемешалось со стрельбой, и сюда, наверх, доносились только какие-то обрубленные отголоски.
Потом убийцы согнали родных вниз и стали совать им в руки лопаты. Люди бились над убитыми в истерике, теряли сознание, рвали на себе волосы. Солдаты ружьями и лопатами били их по головам. Требовали, чтобы те начали рыть. Кто-то крикнул: «Люди, мертвых все равно надо похоронить!» Сейчас уже наверху стояли солдаты. Стояли с нацеленными винтовками в руках. Когда яма была уже вырыта, покойники опущены в нее, началась лишь стрельба. Одни упали в готовую могилу, другие разбежались и остались лежать вокруг, на склоне горы. Не передать тех воплей, криков. А крови…
С тех пор как Рашков есть Рашков, он такого не переживал. Разве что когда-то, поколения назад, еще до того, как Рашков стал Рашковом, во времена инквизиции, кровавых боен, когда евреев тоже вот так-вот ни за что ни про что бросали в костры.
Получилось, слышите, как будто внуки тех палачей и убийц пришли сюда, в наши края, чтобы внуков тех, прежних жертв и святых отыскать и работу дедов своих завершить, сделать до конца, как положено…
Я возвращаюсь назад, к тем предпасхальным и послепасхальным нескольким неделям моим дома, и вижу Хону Одесского в его светлой летней тужурке с четырьмя накладными карманами. Так он до конца своей жизни любил ходить — в тужурке с четырьмя карманами.
Хоть ему нет еще и полных двадцати лет, пробивается уже на голове приличная лысинка; две широкие залысины по обеим сторонам лба.
Он курит папиросу, сощурив глаз, как будто только-только начал курить и с горькими завитками дыма еще не подружился. Хотя курит он с детства. А дома ему с детства разрешали курить по двум причинам: во-первых, потому что он у них один-единственный и неповторимый, — попробуй ему не разреши, во-вторых, у Одесских такая семья — детей приучают с мала самим стоять на ногах, сами должны они знать, что для них хорошо, а что не хорошо.
В Рашкове дом Одесских считался очень интеллигентным домом. Фройке Одесский, отец Хоны, ходил всегда с бритой головой. О бороде уже и говорить нечего. То есть таки бритый со всех сторон. Он был недоучившийся провизор. Не доучился он где-то в далеком русском городе потому, что доучивание это все тянулось и тянулось — то до после свадьбы, то до первых двух детей, пока не стащило его сюда, в Рашков, и он для себя решил, что недоучившийся провизор тоже что-нибудь да значит. Он держал в Рашкове что-то вроде маленькой неофициальной аптеки. По секрету всему свету продавал он из-под прилавка мазь, полоскание, микстуру, какой свет еще не видывал, им самим скомбинированную и годную для всего, какой-нибудь заумный порошок и всякие прочие снадобья. На виду лежали в стеклянном шкафчике несколько пахучих кусочков мыла, пара тюбиков крема, флакончики одеколона, бандаж, спринцовка и всякие прочие аптекарские штучки, которые можно продавать, даже не будучи настоящим провизором.
Были у Хоны две сестры. Одна — Бетя, с грубым мужским голосом, с коротко стриженными волосами, шумная, подвижная, беспрерывно болтающая. Вторая, Аня, наоборот — с длинной косой на спине до самых пят, с изможденным бледным лицом, тихо ходит и тихо говорит, можно даже сказать, больше молчит, во всяком случае — всегда смолчит.
У Одесских в доме больше говорили по-русски, чем по-еврейски. И не только Фройке и дети между собой. Но даже Одесскиха, Хонина мать Брайна, простая будничная еврейка, которая могла остановиться поболтать с соседкой около дома часа на два и сыпать рашковским идиш со всеми проклятьями, любила между прочим, тут и там, закинуть русское слово. Как например, «короче говоря» или «не без того», и вдруг совсем перейти на русский, так что соседка, ее собеседница, стоит и плечами пожимает, ведь это, кажется, не больше, думает она, чем повседневная болтовня о том о сем, о пятом-десятом, и куда вдруг клеится тут русский ни с того ни с сего.
Бетя и Аня, из числа девочек постарше, прочли в рашковской библиотеке те несколько полок русских книг, что остались там еще с прежних времен; а кроме библиотеки, кроме, скажем, Пушкина, Герцена, или Достоевского, или даже Горького, доставали еще иногда — видимо, через отца, через Фройке Одесского, который, бывало, ездил в Кишинев за товаром для своей аптекочки, — Блока, Есенина, даже Маяковского; и не только прочли все это, но выучили наизусть, чтобы вечером в пятницу, за столом, или субботним днем, когда собирается компания, встать, особенно старшая, молчунья Аня, и декламировать их наизусть с тихой грустью в голосе и, кажется, даже, с поблескивающей влагой в глазах.
Хона Одесский сам по себе научился играть на скрипке. То есть это только говорится так: сам по себе. Его часто встречали шагающим со скрипочкой в руках в сторону Климауц, к Тодэрикэ-лэутару. Для многих рашковцев навеки осталось загадкой, что вдруг единственный сын Фройки Одесского, Хона, такой деликатный и с такой головой на плечах, ни с того ни с сего бросил сорокскую гимназию, ни с того ни с сего стал вдруг музыкантом, стал ходить с компанией Тодэрикэ играть по деревням на свадьбах, на жоках у качелей и даже, без капли стеснения, здесь, в городе, на еврейской свадьбе тоже.