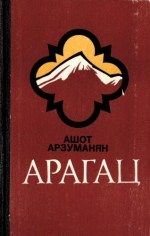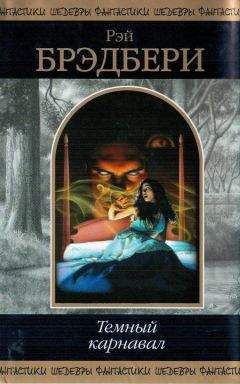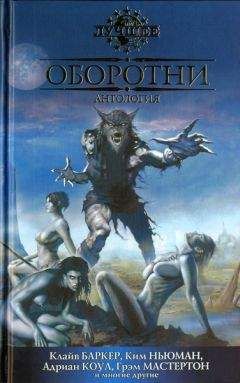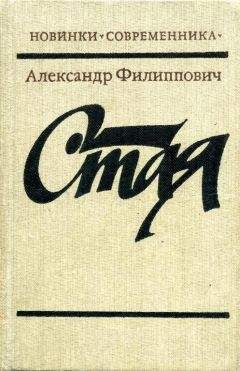Ихил Шрайбман - Далее...
Говорили, говорили и в конце концов, по рашковскому обычаю, замолчали. Загадка — загадка. Если тебе, реб отец Фройке Одесский, нравится, то нам, сторонним людям, и вовсе ладится. У нас у всех, слава богу, свои собственные ноши со своими собственными напастями.
Чем-то Хона Одесский был не такой, как все. Не такой даже, как любой из наших, из рашковских левых в те годы. Левизну свою он не выставлял напоказ. Не носился с ней. Она не была у него веянием моды. Понятия Революция, Советская Россия, Коммунизм пришли к нему не извне, не из самого бессарабского воздуха, который раскален был ими в то время. Он долго в них копался. Они взросли в нем изнутри, потихоньку, постепенно. Наверно, еще с малых лет, дома. Свою левизну он носил в себе постоянно и глубоко запрятанно. Он вообще выглядел как-то таинственно, немножко не от мира сего. Видимо, из-за этого каждый его «ненормальный» шаг был для рашковцев загадкой, вызывал пересуды на крылечках. Почему бросил гимназию? Почему вдруг музыканты? Почему Хону Одесского угораздило вдруг влюбиться в Мойше-маляра дочку, простую девушку из закоулков? Но раз уж Хона Одесский влюбился, то никакие уговоры не помогли. Опять говорили, говорили, пока и с этим ненормальным шагом свыклись. На сей раз даже в доме были против этой влюбленности. Из чужих, однако, никто об этом не знал. Ели друг друга поедом, но — дома. До тех пор пока Хона не женился в конце концов на дочке Мойше-маляра и не ушел из дома — жить-таки туда, в закоулки, к Мойше-маляру.
Но это уже произошло много позже. За три-четыре года, не больше, до Кодымы…
Вот вижу я, как мы гуляем оба в послепасхальных сумерках наверху, в тихом переулке возле поповского двора, между двумя рядами каменных заборов, что огораживают виноградники.
Раньше, до Черновиц, я с Хоной не очень дружил. Мне казалось всегда, что он меня не уважает, смотрит на меня сверху вниз. Из-за этого я его тоже недолюбливал. Уже тогда, наверное, я не любил того, кто не любит меня. Сейчас, после Черновиц, приходит ко мне Хона каждый вечер, вызывает меня из дома, говорит по-дружески: «Пойдем, прогуляемся немного».
Хорошие вечера. Виноградники уже в листьях. Деревья здесь, за городом, в молдавских дворах, уже отцвели, зазеленели. Солнце заходит где-то наверху, на рашковской горе, отсвечивает, поблескивая во всех окнах напротив, на той стороне Днестра, в советском Рашкове. Каменные заборчики виноградников такие низкие, что мы можем поставить на заборчик ногу, упереться локтем в колено, а в ладонь — лицом, и так стоять какое-то время без слов, просто смотреть напротив, на ту сторону Днестра. Туда.
В тот вечер, помню, я аллегорично сказал:
— Солнце заходит и солнце восходит…
Слово «аллегория», благодаря, наверное, перецевским[1] многоточиям, было тогда очень популярно в бессарабских местечках среди наших.
Хона усмехнулся. Он не любитель таких крылатых выражений. Он тут же взял меня под локоть, наверное, чтобы усмешку свою загладить, извиниться за нее.
— Послушай, — сказал он, — давай сегодня говорить конкретно (слово «конкретно» тоже было тогда популярным словом). Ты думаешь что-то делать со своими детьми?
— С детьми? Делать?
— Да. С ними. С учениками твоими.
Он шел в тот вечер все время рядом, обняв меня. Для того, видимо, чтобы тон, которым он говорил, не показался мне снисходительным. Он говорил таким тоном, будто не я — он вышел только что из тюрьмы, прошел уже огонь и воду. Я передаю его речи растрепанно, приблизительно. Он, сказал он, в большой город не рвется. Он остается здесь. На столько, на сколько это будет возможно. Отсюда он не уезжает. Что такое, здесь больше нечего делать? А в селах вокруг Рашкова уже что-то сделано? Хоть он еще не проверил, за что я сидел, и как именно меня выпустили, и будет процесс или не будет процесса, и хоть Рашков, как известно, Рашков, и в таких случаях могут ходить различные толки, — он ни к кому не прислушивается и верит мне. Между нами обоими, сказал он, довольно много общего. Не в том, что он бросил гимназию, а я семинарию, — вообще во многом. Так ему кажется. Доказательство, что он мне верит, — вот он мне рассказывает, что в Рашкове сейчас ведется работа. И немалая работа. Везде. Среди молодежи. Среди ремесленников. В обеих магалах. Даже среди девушек, что работают на горе, на табаке. И просто среди людей. Везде, где наболело и нагорело, где ждут нашего слова и где наше слово по душе. И чего это я так дернулся, когда он спросил меня про детей? Что же, среди детей, думаю я, уже совсем нечего делать? Это как раз хорошо, сказал он, что мне подвернулись мои десять — двенадцать учеников. Сегодня это маленькие дети, завтра, через несколько лет, — глянь — это уже большие мальчики, люди. Это уже мы. Тихо, деликатно, тонко надо вдохнуть в них чувство, искру. Разве я не знаю, что из искры возгорелось пламя? Если я думаю, что с музыкантами Тодэрикэ на сельских свадьбах он просто играет, получает свои пару копеек за игру, и все, отыграл и дальше пошел — то я сильно ошибаюсь. Революционером, считает он, надо родиться. Это — как особый талант. Не каждый имеет, например, красивый голос. И не каждого, скажем, тянет к игре на скрипке. Это не из тех работ, что сделал, верстак убрал и освободился, закончил работу. Это работа, которую делают днем и ночью, всю жизнь. От нее никогда нельзя отделиться, как нельзя отделиться от таланта, которым навеки одарены. Разве что суждено несчастье, и ты теряешь талант. Или растопчешь его собственными ногами. Такое тоже случается. Ого! Еще как случается такое!
Хона все время шел и говорил. Я молчал. Я только, помню, думал: на́ тебе — Хона Одесский. И на тебе — Рашков. Про Хону я еще расскажу позже. В дальнейших главах.
6Между пасхой и швуэс.
Два дня швуэс были мои два последних дня в Рашкове. На долгие, долгие годы. Можно даже сказать, навсегда.
На завтрашний же день, когда я шагал с одного урока на другой, шагал себе, как обычно, задумавшись, посередине улицы, вдруг, как из-под земли, вырос передо мной рашковский жандармский шеф, шеф-де-пост, как он назывался, со своим маленьким толстеньким жандармчиком за спиной, которого в Рашкове звали Кусачий. Рашковский шеф-де-пост, помню, был худой, изможденно-костлявый, с длинным острым носищем, с глубокими впадинами на щеках, с маленькими, быстро бегающими глазками. Его синий френч, перекрещенные ремешки, погоны и аксельбанты висели на нем, болтаясь, как на вешалке, им просто не на чем было держаться, вот-вот выскользнет он, бедняжка, из них всех. Но такой вот, худющий, нескладный, он был страшный изверг. Не один мещанин чувствовал на себе, где-нибудь на спине или на плече, все пять худых костяшек жилистой руки шефа-де-пост. Хлопнуть по спине, ткнуть под дыхало, якобы по-приятельски, в шутку. Он, кто шутит, получает капельку удовольствия, а тот, с кем он шутит, чтоб чувствовал и помнил. Не говоря уже о том, когда в его благородие вселялся бес. Двери запирались на засовы, окна — на крючки: бешеная собака бегает по улице с пеной у рта. У него, однако, было большое достоинство: брал. Брал — одно удовольствие, как говорили лавочники в Рашкове. Достоинство, однако же, говорили снова, ходило в паре с большим недостатком: еще до того, как он брал, он сразу же забывал, что брал, и иди судись с ним, иди сделай ему что-нибудь. Маленький толстенький жандармчик всегда ходил сзади шефа-де-пост с коротким ружьем на плече, с коротким ружьем, которое из-за его, жандармчика, невысокого роста выглядело длинным. Ему в местечке дали имя Кусачий, потому что однажды вечером он Менаше-сапожника парню Бурцие, Бурцие Менашеному, за то, что он встретил того поздно на улице, запрыгнул на спину и сильно укусил его в голову. Рашков над этой историей смеялся. Смеяться-таки смеялись, но кошки на душе, понятно, скребли.
Шеф-де-пост положил мне на плечо свою узловатую руку: стой, значит, и не двигайся с места. Он спросил, тот ли я и тот, то есть я ли я. Жандармчик по всем правилам сорвал с плеча ружье. Точно в тот самый момент и в том самом ритме, в котором шеф-де-пост здесь вот, посреди улицы, объявил мне:
— Ты арестован. Пошли!
Я шел якобы спокойно, немножко окаменевший, якобы хладнокровный. Мне показалось, что люди в дверях по обеим сторонам улицы вглядываются с ладонями-козырьками у лбов, как меня ведут, и не могут себе толком представить, что здесь только что, средь бела дня, произошло. Но это мне только показалось. Еще до того, как меня провели перед нашим домом, кто-то туда уже должен был раньше прибежать и рассказать эту хорошую новость. Потому что мама уже стояла на улице растрепанная, с красным заплаканным лицом, рвала себя за щеки, заламывала руки. Губы ее подрагивали, и я слышал, как она меня спросила — или она спрашивала саму себя:
— Что уже опять такое, а? Горе мне, господи, за что?..
Мы завернули в другую улочку, наш дом остался далеко внизу, а я все еще видел мамины дрожащие губы, все еще слышал тихие, рвущие душу причитания.