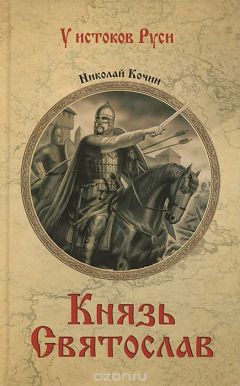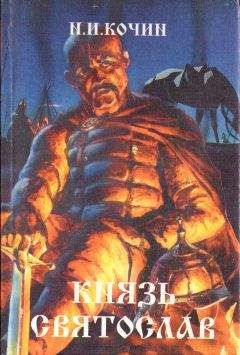Николай Кочин - Девки
— Видно, не вкусно вам, что жених с лаской расположен, — надумал он наконец.
Марья помолчала. Потом тихо проговорила:
— Я не воронье мясо, я человек.
— Вижу, не слепой. Только прошу меня, барышня, не образовывать! Я в университетах не учился, я и так светлее каждого. Меня каждая девка держит на примете, — продолжал Ванька, — улучил вот время для любви, а ты ерепенишься.
— Што ты, ополоумел? — прошептала Марья.
— Я тебя за честную беру, на слово верю. Про тебя немало слухов ходило, говорят вон, Федька хахаль твой... Кто вас знает, может давно стакнулись!
— Греха между нами не было.
— А что было?
— Ничего.
— Брешешь!
Парунька вышла в сени в тот момент, когда жених уже стаскивал с невесты платье. Она вцепилась в руки ему. Увидев Паруньку, Ванька посовестился, ругаясь ушел в избу.
Марья осмотрела платье у фонарика: оно было порвано и нескольких местах, шитье помято.
Парунька проводила ее в горницу.
Как только Парунька притворила дверь, невеста упала на постель вниз лицом и запричитала:
Вы, голубушки, подружки,
Схороните вы меня...
Вот идет — погубитель мой,
Вот идет — разоритель мой.
Он идет — расплести косу,
Он идет — поломать красу...
Я в чужих руках младешенька
От работушки замаюся...
За столбом я потихонечку
От чужих людей наплачуся...
Тело ее вздрагивало, плач заглушал задорную гармонику. Парунька, не утерпев, тоже заревела.
— Девыньки, девыньки, — голосила она, — продают подругу к идиёту, продают за каменные углы, а того не понимают, что у девки душа человечья...
Поплакали вволю и, утерев слезы, вышли к гостям с притворной веселостью.
Утром в избе столпились свахи, подруги, родня, сряжали невесту к венцу. Пришли соседи и тоже советовали. Из сундука вынули широкое шелковое платье, оно подолом заметало пол. Красивый стан Марьи облекли в это платье. К нему — тоже шелковая, с кружевами на груди и рукавах, кофта.
В длинную светлую косу вплели алую ленту; она свисала низко, почти к ногам. Усадив невесту на переднюю лавку, начали завивать ее волосы — взбили большущий пучок кудрей, воткнули в них искусственные цветы, сзади свесили кисейную вуаль.
Невеста молчала. Мать монотонно причитала:
— Экую ягоду вырастила! Не давали ветру вянуть, дождю кануть.
Бабы поддакивали:
— Смиренница. Всем взяла. За это ей бог и счастье посылает.
Пришли от жениха, сообщили, что он готов.
Тогда женихова крестная вынула из невестиной косы красную ленту и положила ее на блюдо. Блюдо держала обеими руками Марьина мать. Крестная сказала:
— Свахынька, примите девичью красоту. Бог спасет. Поили-кормили, на путь наставили, да и нам доставили.
Передали гостинцы в пестром платке от жениха, и обряд кончился.
Украдкой мать положила за пазуху невесте луковицу, в чулок насыпала проса,
— Успевай, смотри, первая на паперть вступить, не забудь, век в доме большая будешь, — с одной стороны шептала сваха.
— Креститься станешь — рукой на луковицу норови, — шептала сваха с другой стороны.
Зазвонили в караульный колокол. Народ по улице бежал к церкви глядеть на молодых. Запрудили паперть и стали в ограде, возле повозок, на которых привезли жениха с невестой.
Народ шумел, вскрикивал, шаркал ногами; под церковным сводом этот шум увеличивался, ударял в уши... Вот уже целую неделю перед Марьей народ: на девишниках, на запое, в церкви, дома — и все разговор об ней. Скорее бы кончилось!
— Кланяйся ниже, с женихом враз, — шептали сзади и дергали за платье. — Смотри умильнее.
— В правую руку платок возьми, в правую.
Марья кланялась не вовремя, народ гудел, слышался смех.
— Марьюшка, срамишь себя! Гляди на жениха, когда он кланяется, — шептали свахи.
Марья пробовала глядеть на жениха, уткнувшегося глазами в спину попа. Она видела, как отвисает у него нижняя губа, видела челку, — и ей казалось, нет хуже губы и челки ни у кого.
— Опять опоздала, баламутка, — шептали свахи.
Подняв наскоро глаза, в подвижном омуте девичьих голов уловила она заботливую складку на Парунькином лице, и это перепугало ее еще больше. Девичья толпа вмиг стала уплывать к путаной резьбе позолоченного иконостаса, а голос попа прорезал шорохом насквозь и приглушил Марью откуда-то сверху:
— ...Прилепится к жене своей и будут два в плоть едину.
«Не упасть бы!» — мелькнуло у ней и голове.
Поп надел на палец ей женихово кольцо, пробормотал вслух:
— Раба божья, по доброй ли воле идешь?..
— По доброй воле иду, — ответила Марья испуганно.
Потом народ разом отхлынул, поп сковал своей ладонью ее руку с рукой жениха и повел вокруг аналоя, распевая:
— Исайя ликуй...
Шум размножался по всем углам церкви и окончательно ошеломил Марью. Она переступала, как деревянная, вуаль бестолково пугалась в ногах и мешала, а шафер, отягченный градусами человек, ударял ее венцом по голове.
— Гоголем иди, шагай шибче, — шипели свахи.
Наконец толпа вынесла невесту с женихом на паперть. Идти до дому надлежало под венцами, — свадьба была заварена на диво.
У крыльца сгрудилась родня. Отец Марьи, покачиваясь, поджидал молодых. Он обнял их, но ноги у него разъехались, он поцеловал дочери предплечье.
— В губы целься! — загалдели сродники Марье, нахально поднося к ее лицу пахучие усы и бороды.
В сенях толпились девки, бабы. Молодых ввели в пропахшую керосином горницу, где хранилась одежда и часть бакалейного товара. Горницу отопили железной печкой. У стены была постлана постель на деревянной кровати, лежали четыре подушки и ватное штучковое одеяло с кружевной каймой. [Штучковый — лоскутный, из маленьких кусочков ткани.]
В передней избе угощались попы и певчие, в горнице стол был накрыт только для молодых. Шумел самовар, прислуживали свахи. С невесты сняли цветы и венчальное платье, переодели в шерстяное темно-зеленое. Жених скинул суконный пиджак и остался в голубой рубахе с коричневым галстуком горошинками.
На столе ветчина, балык, белорыбица, масло, пироги, молоко, яйца, конфеты, нарезана яблочная пастила и поставлены две бутылки дорогого красного вина.
— Ну, Марья, отведай у новых батюшки и матушки, — потчевали свахи.
Марья ничего не ела сегодня, но аппетита все-таки не было. Она потрогала пастилу, кусочек положила в рот и с трудом проглотила. Жених лупил яйца, поедал их целиком. Щеки его отдувались — и Марье вдруг показалось, что она не сможет остаться с ним наедине. Стало страшно, что свахи уйдут и придется с ним лечь в приготовленную постель... Она знала, что это неизбежно, и ей хотелось, чтобы свахи были тут долго-долго...
— А ты ешь, дуреха, — советовали свахи, — али в постельку торопишься? Успеете еще, налюбезничаетесь...
— Уйдем, уйдем, мешать не будем, сами были молоды, — прибавила другая и подмигнула Марье.
Свахи торопливо ушли и плотно притворили дверь. Марья застыла на месте — давила пальцами пирожок на столе, чтобы отдалить неизбежное.
Колотилось сердце. Был огромный стыд перед всеми: там за стеной только и думают сейчас о том, как наедине будет любезничать с Марьей жених.
Ванька запил яйца самогоном. Губа у него еще больше отвисла, ноздри раздувались, глаза затуманились.
Он чиркнул спичкой, закурил и сердито сказал:
— Ну, ты ляжешь, что ли?
Марья стала снимать сарафан. Руки ее дрожали, не попадали куда следует. Она знала: в щелочку, как всегда, подсматривают свахи. Когда дело кончится, свахи возьмут измаранную простыню и будут ее показывать гостям как свидетельство девичьей честности.
Марья осталась в одной белой широкой рубашке и тихонько легла под одеяло лицом к стене, чтобы не видеть, как раздевается муж. Болезненно-чутко расслышала она стук сброшенных штиблет, шорох скидаемой рубахи, звяканье ремня о табуретку.
Одеяло отдернулось...
Потом, когда все кончилось и потный, усталый, пропахший самогоном Ванька оставил ее, она свернулась в комок, всплеснула руками и прошептала:
— Ой, что ты со мной делаешь?
Муж поднялся с постели и закричал:
— У меня есть имя али нет? Али не по нраву мое-то имя?
И сунул кулаком Марье в бок.
Марья притихла, перестала всхлипывать, ждала новых ударов.
В девках, как и все, она звала Ваньку Слюнтяем, не иначе. Назвать Ваней было невозможно.
— Повернись сюда. Повернись, говорят! Ах, ты так? — Ванька скинул с нее одеяло и ладонью звонко три раза ударил по лицу.
Из горницы вдруг покатились по сеням отрывочные, глубокие всхлипы невесты. Когда вбежали свахи, Ванька, дыша, как загнанный мерин, кричал:
— Я покажу, как нос от мужа воротить!
— Поучи. Следует, коли эдак, — бормотали свахи. — Срамота! С первых-то дней нелады. Ба-атюшки! Что люди скажут!