Александр Рекемчук - Избранные произведения в двух томах. Том 1
Вот уж смех.
А потом у нашего старика, у Наместникова, учился Сергей Павлович, который теперь тоже немного седоват. Почему-то он так и не стал знаменитым певцом. И не сделался известным пианистом. Должно быть, тогда, в войну, в селе Арбаж, что в Кировской области, они слишком уж сильно голодали, ребята.
А может быть, ему самому захотелось быть концертмейстером и работать в том же училище, где учился сам.
Мне очень нравится заниматься с Сергеем Павловичем: он все знает, все слышит. Мне сдается, что каждую ноту, которую я пою, он тоже поет, но неслышно, в себе, в глубине глаз…
«Готово», — сказал накануне концерта Сергей Павлович. «Да, пожалуй», — кивнул, прослушав, Владимир Константинович.
Но когда мы расселись в автобусе, чтобы ехать, я увидел на самом заднем сиденье Колю Бирюкова — насупленного, с опущенным цигейковым козырьком шапки. На меня он не смотрел. Он ни на кого не смотрел. В окно смотрел.
И я до сих пор не знаю, почему он тогда ехал вместе с нами, хотя ему и было настрого запрещено петь: то ли напросившись, то ли без спроса. То ли на всякий пожарный случай: вдруг у меня от робости язык отнимется. То ли из любопытства: каково у меня получится в первый раз?..
Замечу лишь, что от глаз Владимира Константиновича не укрылось то, что Бирюков едет вместе с нами, хотя тот и загораживался козырьком.
Он это сразу увидел, но ничего не сказал.
Ведь отвыкать надо тоже постепенно. Как и привыкать.
Мы пели в тот вечер обычный наш репертуар. «Пришла весна» Гайдна, баховский «Терцет», «Колыбельную» Лядова, «В небе» Палестрины, кое-что из новых авторов. Это кое-что из новых авторов у нас постепенно обновлялось, ведь новую музыку нужно пропагандировать — святое дело. Но Бах, Лядов, Палестрина оставались всегда и неизменно, так, вероятно, они и останутся.
Ведь, скажем, этот самый Джованни Палестрина: он жил на свете четыреста лет назад, че-ты-ре-ста!.. И песню «В небе» он в ту пору написал специально для мальчишеского хора.
Привет, Джованни Палестрина!
Мы все еще поем твою песню.
Мы поем.
Нас слушают, замерев.
На нас смотрят, боясь шелохнуться.
Досадно, черт, что я не могу видеть наш хор оттуда, из зала, со стороны. Наверное, это красиво. Ровные ряды мальчиков, одетых в одинаковые костюмы. Ряд над рядом: впереди самые маленькие, позади — самые длинные. (Лично я нахожусь где-то посредине). И я представляю себе, как за последним рядом самых долговязых — так естественно, будто бы еще один ряд, будто наше продолжение — вздымаются к потолку серебряные трубы органа, знаменитого консерваторского органа. Вероятно, им, сидящим в зале, все это видится целиком и, может быть, им сейчас кажется, что звучит именно орган: в его задорных высоких регистрах.
Я, как и все остальные, старательно веду свою партию, но различаю отдельные знакомые мне голоса: вот Маратик Алиев, отбывший свое недельное наказание, вот Гошка Вяземский, а это Витюха Титаренко — мои одноклассники, мои однокашники.
Но я, сколько ни вслушиваюсь, не могу уловить самого знакомого мне и, признаюсь, самого любимого мною голоса Коли Бирюкова. Его не слышно, его нет, хотя я и видел, как Николай Иванович становился в ряд, залезал на верхнюю ступеньку.
Значит, петь ему все-таки не позволили.
И значит, все-таки запевать придется мне.
Ох, дорогие граждане, уважаемая публика!.. А может, это и не нужно? Разве плохо звучит наш слаженный хор? Ведь как это прекрасно: хор. И самое милое дело для хорошего певца — петь в дружном хоре, когда ощущаешь локтями локти стоящих рядом приятелей, когда тут же, впритирочку, совсем близко и Витюха Титаренко, и Гошка Вяземский, и Маратик Алиев…
Зачем это дурацкое соло? Не надо, а?..
— Былина о Добрыне Никитиче, — объявляет ведущий. — Солист Женя Прохоров.
Я, понурив голову, выхожу из тесного ряда. Прощайте, товарищи…
Я оказываюсь впереди хора.
А чуть еще впереди и чуть сбоку — Владимир Константинович Наместников. Он во фраке. Тугой белый пластрон, белая бабочка.
Он склоняется надо мною, будто надломившись в пояснице. А ведь я хвастался, что очень сильно вырос за эти последние годы, вытянулся, вымахал. И все же он, Наместников, склоняется сейчас надо мной, как над крохой. Но тут уже не моя вина — просто он необыкновенно высок ростом, Владимир Константинович, высок и сух, словно жердь.
Он вытягивает перед собой руки с костлявыми коричневатыми пальцами, подносит эти пальцы почти к моему лицу…
Я страшно боюсь. У меня дрожат колени.
Но гораздо больше, чем замершего в чуткой тишине зала, я боюсь этих длинных коричневых пальцев. То есть я их вовсе не боюсь, а просто привык им подчиняться беспрекословно, как божьей воле. И дрожь в коленках унимается. Весьма кстати: ведь если бы коленки продолжали дрожать, то дрожь непременно передалась бы и голосу — и вышел бы препротивный «барашек».
Стариковские руки медленно поднимаются.
То не белая береза к земле клонится,
Не шелковая трава преклоняется…
Порядок. Первые фразы спеты нормально. Как на репетициях. Правда, на репетициях мне доводилось петь в очень маленьком зале училища. Я еще никогда не слышал своего одинокого голоса в таком просторе, как этот большой консерваторский зал, который не случайно называется Большим залом. До чего же отчаянно далеки крайние ряды этого зала, как отдален и высок балкон! А ведь и там сидят люди. Они деньги за билеты платили. Слышно ли им?..
Но я уже знаю, что слышно. Я даже не пытаюсь напрягать голос, да это и запрещено нам строго-настрого, однако твердо знаю, что меня слышат в самых последних рядах. Потому что мой голос летуч. Если бы даже я сейчас пел совсем тихо, пианиссимо, его все равно бы услышали там, поскольку он обладает должной полетностью. Да, услышали бы: и безо всяких микрофонов, безо всяких динамиков.
Нет, то сын перед матерью поклоняется…
Рука дирижера ложится на белый пластрон, на грудь. Я понимаю, что это означает. Это означает, во-первых: «Женя, поставь звук на диафрагму… вот так, хорошо». Это означает, во-вторых: «Женя, сердечней, сердечней… ведь это сын поклоняется перед матерью». Это означает, в-третьих: «Женя, не акай, пожалуйста — «о-о»…»
Я все это отлично понимаю. Я стараюсь. Я держу звук на диафрагме: слышите, как он глубок? Я представляю себе, как должен поклоняться сын родной матери. У меня тоже была мама. Я поклоняюсь ей.
Я торжественно «окаю»:
…пОклОняецца…
Привет, Джованни Палестрина! Ты, который жил четыреста лет назад. А знаешь ли ты, что эту песню, эту былину, которую я пою сейчас, пели еще за четыреста лет до тебя? Ее пел Боян. Ее пели гусляры — зрячие и слепые. И может быть, русоголовые мальчики-поводыри тоже пели эту песню о славном Добрыне Никитиче…
Вступает хор.
Потом долго гремят аплодисменты.
Потом я — уже не на словах, а на деле — поклоняюсь. Публике. На последних репетициях меня научили прилично раскланиваться.
— Композитор Белый, «Орленок», — объявляет ведущий.
За роялем появляется концертмейстер. Эта песня идет под аккомпанемент. Это наша, советская песня. Уж не знаю, по вкусу ли она придется строгим ценителям академического пения. Но эта песня неотделима от нашего хора.
Я запеваю:
Орленок, орленок, взлети выше солнца
И степи с высот огляди,
Навеки умолкли веселые хлопцы,
В живых я остался один…
И тотчас же ощущаю, как что-то теснит мое сердце, Я мог бы даже сказать, что у меня комок подступает к горлу. Но это исключено. Никаких комков! Ведь я пою — и горло должно быть свободно, чисто. А вот насчет сердца — тут уж и впрямь теснит…
Я люблю эту песню. Ее суровые и честные слова. Ее мелодию. Это прекрасная мелодия. Я давно обратил внимание, как нарастают в ней высокие ноты: взмах крыльев — и спад, взмах, еще выше — и спад, и еще, еще выше — снова спад… Там, в этой песне, есть удивительные вещи. Пятый по счету звук в начале куплета — самый низкий, си. Он повторится лишь в конце рефрена, итогом. Но вот поди ж ты, в начале четвертой фразы («в живых я…») будет звучать обыкновеннейшее ре-бемоль, а оно покажется ниже начального си, хотя на самом деле оно выше. И даже мне, поющему эту песню, оно кажется гораздо ниже — у меня даже возникает чувство, будто мне трудней пропеть это ре-бемоль, чем только что легко и свободно взятое си. И тут — вот тут! — следует неожиданный взлет, эта отчаянная, как вскрик, октава: «навеки-и-и…» Нет, это очень здорово!
Я люблю «Орленка». И часто размышляю о нем. Как написал композитор эту песню? То ли пришла она к нему сама в счастливый час — разом вырвалась из души? Или же он долго, мучительно прокладывал эти мелодические ходы, строил чередования высот, перепады ладов? Как вообще сочиняют музыку?..

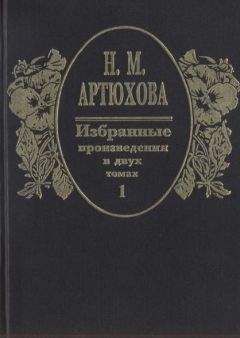
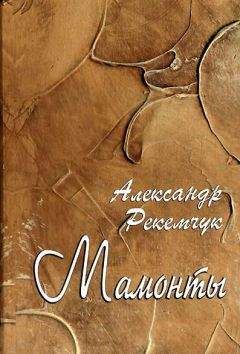

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/uploads/posts/books/240148/240148.jpg)