Александр Рекемчук - Избранные произведения в двух томах. Том 1
Но я тогда еще не понимал лабухского языка.
Я тогда еще много чего не понимал.
Часть вторая
На лестнице — зеркало.
Точнее, не на самой лестнице, а на площадке между первым и вторым маршем. Большое, во весь простенок поперечное зеркало, оправленное черным деревом. Оно уж, это зеркало, и темновато, и щербато, и в мелкую оспинку — потому что очень старинное, лет сто ему.
Однако смотреться еще можно.
И вот, как я припоминаю, когда я только приехал сюда, в хоровое училище, и стал учиться в первом классе, то мне надо было взобраться чуть ли не на самую верхнюю ступеньку, чтобы наконец увидеть себя в этом зеркале.
А теперь мне достаточно с хода раз-другой перепрыгнуть через ступеньку — и в зеркале уже появляется моя макушка, и вслед за макушкой и лоб, и нос, и рот, и длинная шея, и мои немного щуплые плечи, хотя я вовсе не слабак, и вот уж я весь как есть в этом зеркале, до самого пупа.
Я на минутку задержусь перед зеркалом, поплюю на расческу, почетче раскину пробор, поправлю узелок пионерского галстука, приосанюсь…
Женя Прохоров. Двенадцать лет. Шестой класс. Не то чтобы отличник, а это самое — хорошист.
Что же еще мы имеем на сегодняшний день?
На сегодняшний день мы имеем концерт в Большом зале Консерватории.
Стало быть, жили-поживали, ждали-прождали целых пять лет — и очутились там, где простились, на том же самом месте.
Недалеко уехали…
Ну, это как сказать!
Ведь сегодня в Большом зале не просто концерт, а наш концерт, концерт Хора мальчиков.
Билеты, как обычно, нарасхват. С утра уже люди толпятся у касс. Лезут с записочками к администратору. А вечером на улице Герцена за версту канючат: «Нету лишнего билетика?» — «Есть, — как водится, отвечают случайные прохожие. — В баню».
Нас любят.
И признаться, мы сами любим эти концерты.
За несколько часов до начала нянечки в общежитии отпирают заветные шкафы и достают оттуда аккуратно развешанные на плечиках наши парадные костюмы. Нам выдают чистые сорочки. Отутюженные галстуки. А башмаки — ну, их следует самим надраить до умопомрачительного блеска, а эта работа приятна, когда знаешь, что на тебя будет глазеть переполненный зал.
И очень волнительна минута, когда в ворота училища въезжает автобус с табличкой «Заказной». Шипя, раздвигаются двери — пожалуйста, милости просим…
Мы уже много раз выступали в различных почтенных залах, названия которых пишутся прописными буквами: Колонный зал Дома союзов, Краснознаменный зал Центрального Дома Советской Армии, Центральный Дом культуры железнодорожников, Концертный зал имени Чайковского…
И можно бы, наверное, привыкнуть, не волноваться всякий раз. Но всякий раз волнуешься.
Что же касается нынешнего вечера, сегодняшнего концерта, то тут у меня особая причина для волнения.
Еще на позапрошлой неделе Владимир Константинович Наместников объявил:
— В концерте будет запевать Женя Прохоров. «Былину о Добрыне Никитиче» и «Орленка».
А перед этим произошло вот что.
То есть ничего особенного, из ряда вон выходящего не произошло.
Просто был понедельник.
По понедельникам нас всех обязательно водят к врачу, к оториноларингологу, проще — горловику, вернее — к горловичке, ну, словом, к нашей Марии Леонтьевне.
В углу двора стоит такой ветхий домик, медпункт училища. С виду он, этот домик, ужасно обшарпан и грязен, а внутри — чистота, белизна, сверкают всякие докторские машины, инструменты и штучки.
Мы подходим один за другим к тарелочке, на которую настрижены куски марли, каждый берет по лоскутку и потом, когда настает очередь, садится в кресло, ухватывает себя этой марлей за язык и вытаскивает его, голубчика, сколь можно длиннее:
— И-и-и…
Между прочим, когда мы только еще поступили в училище и впервые стали являться на осмотр к Марии Леонтьевне, она не заглядывала в наши глотки, а просто давала по кусочку марли, усаживала на скамейку и заставляла нас, дурачков, сидеть там, вытянув языки: чтобы мы не боялись, чтобы привыкали к процедуре.
И теперь мы уже не боялись, привыкли.
У Марии Леонтьевны на лбу круглое зеркало, отражающее нестерпимо яркий свет лампы. Этот свет нацелен прямо в раскрытый рот очередного пациента, и туда же врач сует ларингоскоп — никелированную палочку, на конце которой еще одно крохотное зеркальце.
— И-и-и…
— Хорошо, Женя. Можешь идти. Следующий.
Я слез с кресла, бросил марлю в плевательницу.
— И-и-и-и… — затянул следующий.
— Так-так, — сказала Мария Леонтьевна и, убрав ларингоскоп, наклонилась, посмотрела на башмаки пациента.
— Алиев, где ты промочил ноги? По лужам бегал?
— Я не бегал, — обиделся Маратик Алиев и честно посмотрел своими большими печальными глазами в глаза Марии Леонтьевне. — Не бегал.
(И врет, между прочим. Я сам вчера видел, как он шастал по лужам.)
— Бегал. Мне в этом зеркальце прекрасно видно, как ты бегал по лужам… — сказала горловичка. — Владимир Константинович, я отстраняю Марата Алиева от спевок на неделю.
Наместников, сидевший рядом с ней, грозно посмотрел сквозь очки на Маратика.
А в дверях уже толкались старшие ребята.
Вот плюхнулся в кресло Коля Бирюков. Тот, который был когда-то Николаем Ивановичем. Он еще больше подылдел с тех пор. И рот у него сделался еще шире.
— И-и-и…
Я издали залюбовался этой глоткой. Вот уж глотка так глотка! Ужас, до чего огромная глотка.
— Еще.
— И-и-и-и…
Мария Леонтьевна долго и пристально рассматривала эту глотку. Потом снова обратилась к Наместникову:
— Владимир Константинович, взгляните, пожалуйста.
Она слегка повернула лампу.
Наместников согнулся.
— И-и-и-и…
— Вам видно?
— Да… да.
— Связки сильно утолщены.
— М-да.
Мария Леонтьевна отложила в сторону ларингоскоп.
— Петь нельзя.
Коля Бирюков захлопнул рот. Недобро сжал губы.
А Владимир Константинович снял очки и принялся тщательно протирать их платком.
— Мария Леонтьевна, двадцать шестого у нас концерт… — тихо сказал он.
— Бирюкову петь нельзя. Тем более — солировать.
— Может, до двадцать шестого… пройдет? — с надеждой спросил Коля.
— Нет, не пройдет. Это надолго, Коля.
Директор отвернулся к окну.
Бирюков рывком соскочил с кресла и выбежал за дверь.
— Следующий.
— И-и-и-и…
— Хорошо, Игорь. Отлично… Следующий.
— И-и-и…
— Хорошо.
А как он пел!
Мы все поем. Иначе бы нас не держали тут, в хоровом училище. Мы все неплохо поем. И каждый из нас годится в запевалы.
Но Коля Бирюков, по справедливости, пел лучше всех. У него был какой-то совершенно замечательный голос. И все эти годы запевал он. Был даже такой случай, когда Коля солировал в концерте не с нашим хором, а с настоящей, взрослой хоровой капеллой. И я сам видел расклеенные по Москве афиши, где было напечатано: «Солист — Н. Бирюков».
Поэтому нетрудно догадаться, что значил для него приговор Марии Леонтьевны: «Петь нельзя».
И так же нетрудно догадаться, какой неожиданностью было для меня услышать на спевке:
— В концерте будет запевать Женя Прохоров. «Былину о Добрыне Никитиче» и «Орленка»…
Вообще-то я давно знал наизусть обе эти сольные партии.
И все же пришлось репетировать до одури: и с хором, и без хора — с концертмейстером Сергеем Павловичем.
Сергей Павлович тоже когда-то учился в нашем хоровом училище. Только не здесь, а в Ленинграде — ведь наше училище оттуда родом. Когда началась война, когда немцы осадили Ленинград, мальчиков вывезли в Кировскую область, в село Арбаж. Там они жили, и учились, и пели. И очень сильно голодали (мне рассказывал Сергей Павлович). Даже после того как немцев прогнали от Ленинграда, училище не могло вернуться обратно — там еще было страшно после блокады… И мальчиков привезли в Москву, на Большую Грузинскую, сюда.
А теперь в Ленинграде свое училище, в Москве — свое.
Это просто удивительно: вот минуют годы, минуют войны, а мальчишки все поют! И когда они уходят на войну, те, которые младше, продолжают петь.
Я слыхал, что Владимир Константинович тоже пел когда-то в мальчишеском хоре. В синодальном, церковном. Мне даже трудно представить себе, как это он, наш директор, стоит на спевке, коротышка коротышкой, а бородатый регент кричит на него: «Эй, ты, как тебя… Наместников, что ли? Круглей, братец, круглей… И больше серебра!»
Вот уж смех.
А потом у нашего старика, у Наместникова, учился Сергей Павлович, который теперь тоже немного седоват. Почему-то он так и не стал знаменитым певцом. И не сделался известным пианистом. Должно быть, тогда, в войну, в селе Арбаж, что в Кировской области, они слишком уж сильно голодали, ребята.

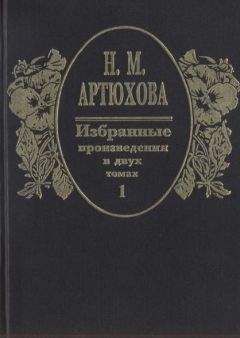
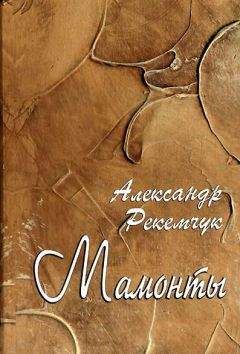

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/uploads/posts/books/240148/240148.jpg)