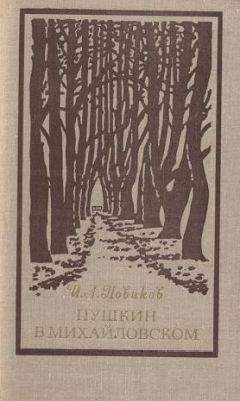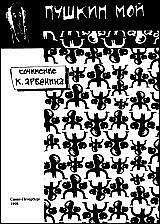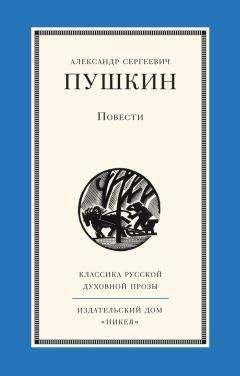Иван Новиков - Пушкин на юге
— Нас маловато, — сказал он, вздохнув. — Еще бы остзейцев сюда, а то и из самой Германии, да все бы места повидней заполнить своими.
— Да это можно и после, — ответил барон.
Но ежели такой внушительный тип ничего не мог возбудить, кроме гадливости, то что же, разве запомнить еще живой анекдот, как некий Марини, похожий на червяка в вицмундире, питавший болезненную страсть к орденам и наградам, — как однажды он так приставал к Воронцову о представлении его к какому–то ордену, что тот почти выбежал в сад, а Марини за ним и в сад — с чернильницей и гусиным пером. Воронцов обернулся:
— Ну как же я здесь, любезнейший, подпишу? Марини не растерялся и, изогнувшись, подставил спину вместо стола.
Что могли Пушкину дать эти люди? Пусть интересно — порою смешно, порою противно, а для души — ровно ничего.
Из семейств, в которых Пушкин бывал, самым приятным было семейство Бларамберга, уроженца Бельгии. Сам он археолог, с ним разговор интересен: он великий знаток всех черноморских древностей. Они вспоминали вместе развалины храма Дианы, и гору Митридата, и даже самого керченского Павла Дебрюкса, которого Бларамберг, смеясь, причислял также к древностям.
У него бывало всегда полно гостей. Старшая дочь его была за испанцем, консулом; за столом одновременно говорили на нескольких языках — по определению Пушкина, «настоящее вавилонское столпотворение»:
— Жалко, что я арабский забыл. Без него чего–то не хватает!
Туманский, поэт, сверстник Пушкина, очень смеялся и говорил в свою очередь:
— А я очень жалею, что я канцелярский чиновник и только немножко поэт, а хотел бы я быть…
Пушкин быстро его перебивал:
— Консулом! Знаю.
Туманский весьма и весьма ухаживал за девицами Бла–рамберг, но о женитьбе вряд ли серьезно мечтал. Глядя со стороны, можно было, пожалуй, подумать, что и Александр Сергеевич красивыми этими девушками несколько увлекался, но он с ними только болтал, танцевал, принимал участие во всяческих играх и забывал сию же минуту, как выходил за порог. Так и Василий Иванович Туманский был ему мил, но и только.
Все эти люди и встречи, при всем их разнообразии, походили на слитный гул волн и были как фон, аккомпанемент подлинной музыке чувства. «Записки Екатерины», тишина библиотеки, под солнцем паркет — вот что стояло в душе, не умирая. И словно бы музыка, тогда возникшая в нем, все возрастала и ширилась, заполняя собою всю жизнь. Этого Пушкин еще никогда не испытывал: он всюду с собою носил это светлое облако, улегчавшее самую его поступь. Порою внезапно, между чужими людьми, для них непонятно, он улыбался себе самому — тому, что в душе.
Пушкин часто теперь бывал и у Воронцовых. В бильярдной у графа бывали его приближенные, графиня принимала в гостиной: Пушкин с Раевским всегда там. Из дам у Елизаветы Ксаверьевны особенно часто бывала Нарышкина, за которою, впрочем, очень ухаживал и сам Воронцов, да еще Башмакова, вздорная внучка Суворова (так нередко бывает с потомками великих людей). Все они были между собою в родстве. Иногда заходил и граф Ланжерон, предшественник Воронцова в звании наместника края, «француз, воевавший против французов», как шутя про него говорили одесские остряки.
Беседа текла непринужденно — по–французски, по–русски, немного по–польски (дамы между собою). Граф–эмигрант душою здесь отдыхал. Он до сих пор пребывал в очень большом смущении от того прискорбного обстоятельства, что ему предпочли Воронцова,(и нового начальника края за это неолюбливал. Здесь же, меж дамами, был он по–прежнему в полной красе, здесь он был кавалер. Годы щадили его, и по фигуре он выглядел совсем молодым. Когда говорил на родном языке, был остроумен, галантен, изяшен, но у него была слабость думать, что он в совершенстве знает и русский язык, и даже «йязик простолью–динофф».
К Пушкину он чувствовал слабость, может быть, и потому, что наблюдал, как молодой человек независимо держит себя по отношению к Воронцову. Но, кроме того, этот юноша шестидесяти лет вообразил, что и ему самому на досуге не поздно еще стать писателем.
— Я вам на днях пьередам мою трагедию. Но скажите мне, когда у вас один стьих хорош, вы не меньяете его на другой, который нье лучше?
— Даже плохой на плохой не меняю, — отвечал, смеясь, Пушкин; он хорошо понимал, о чем идет речь.
Но Ланжерон не очень–то вслушивался, продолжая свое:
— Ну и вот, а чьеловека на чьеловека меньяют! Так–то и променьяли кукушку на йястреба.
Так эта мысль о Воронцове его не покидала, и он отбывал в сторону дам, дабы там отдохнуть на каком–нибудь изысканном каламбуре.
Пушкин в гостиной Елизаветы Ксаверьевны не был похож на Пушкина хотя б у Орловых в далеком теперь Кишиневе. Он не шумел не горячился, не был в центре внимания и никак к тому не стремился. Он, казалось, спокойно уступал первую роль Александру Раевскому, и тот, при всем своем остром уме, не догадывался, что позиция Пушкина была выгоднее, хотя о какой–то там «выгоде» притихший поэт нимало не думал. Он ничего себе не позволял, ни малейшей вольности, после той единственной, которую допустил внезапно, порывисто, в библиотеке с «Записками Екатерины».
Елизавета Ксаверьевна не показала тогда ни малейшего неудовольствия. Даже напротив — казалось, сама она рада была этой открытости чувства. И все же сам Пушкин от этого именно чувствовал не смущение — нет, и не робость, — он чувствовал правду той именно формы своего внутреннего состояния, которое ему не хотелось нарушить, как абсолютно безошибочно чувствовал форму стихов, выражавших именно то, что он хотел выразить.
Это видимое спокойствие его не было все же простой тишиной, и лишь отчасти было некоей завороженностью самым присутствием Елизаветы Ксаверьевны, взглядом ее, улыбкой иль звуками голоса, это была очень полная внутренняя жизнь с непрерывным и гармоническим нарастанием чувства. Но он его сам не ускорял, никак ничего не форсировал, он знал, что все будет.
Графиня порою сама вовлекала его в разговор, порою лишь взглядывала и оставляла в покое. Он ловил этот взор, внимательный, ясный, и казалось ему, что она все понимает и что, как и он, так же она знает: все будет!..
От этой их общей уверенности вскипало в груди, и он поднимался и отходил быстро к окну. За стеклами там — ночь стояла над миром, небо и море не были отъединены, и одни и те же звезды были на глубине и в вышине. Этому космосу он открывался до дна, как самому себе.
Но и разум его не покидал, только и разум этот был как бы особенный разум, тонкий и светлый, не нуждавшийся в выводах, облекаемых в слово. В эти минуты грань между чувством и мыслью почти совсем исчезала, но все же он, понимал свою радость, совершенно подобную той самой радости, какую испытывал, находя новую форму в поэзии, в творчестве. Так и чувства его были богаты и многогранны, как и весь внутренний мир его творчества; и звезды сияли и там, и здесь все те же одни — вечные звезды.
Подобные состояния долго не длятся — можно сгореть, испепелиться, к Пушкин как бы сходил снова к людям. Этого — нет, невозможно отнять. О» был спокоен. И снова он мог легко и свободно дышать, и говорить, и даже болтать. Где–то внутри покоилась огромная радость и тайна, а внешне это обертывалось доброй благожелательностью ко веем этим людям, открытою живостью. Он ничему не изменял, но он не мог не лучиться, не искриться. И она, казалось ему, понимала и это.
Да будут благословенны записки императрицы Екатерины!
Глава двадцатая
«САЛЮТ»
Зима была шумная, пышная. Новый начальник края давал; бал за балом, блистательно открывая свою эру. Пушкин на этих празднествах и веселился, и злился, предавался тоске и чувству блаженства — попеременно.
Если в Одессе вся эта масса знакомых людей возбуждала одно лишь его любопытство, то с тем. большею силой нарастали в нем два противоположные чувства к чете Воронцовых: страстное чувство любви к графине Елизавете Ксаверьевне и острое чувство ненависти к графу Михаилу
Семеновичу. А на этих балах они были оба — хозяин, хозяйка. И оттого все становилось особенно сложно.
Это не был вечер в гостиной Елизаветы Ксаверьевны, и не был короткий деловой разговор на стороне с высоким начальником. И там все было разно, но все было ясно по–своему, все стояло на месте. В гостиной порою он начисто забывал о самом существовании графа. Здесь он был нервен. Перед ним были муж и жена, и только так их видели все окружающие. Для него же это было невыносимо. А сам он? Он был почти что никто. Порою и здесь об этом он забывал, но когда внезапно или сам Воронцов, каким–нибудь словом, похожим на жест, указывающий человеку его надлежащее место, или другой кто–нибудь из чиновной верхушки давал ему вскользь понять это же самое, Пушкин вскипал от обиды, от гневного сознания несправедливости. И тут он давал себе волю — чувствам, словам, эпиграмме, — ни с кем и ни с чем не считаясь.