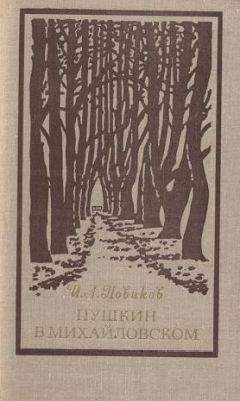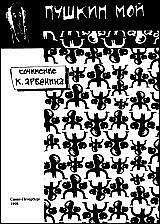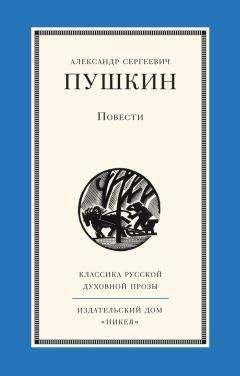Иван Новиков - Пушкин на юге
Воронцов охотно разрешил бы беспокойному своему подопечному поездку куда–нибудь и подальше, а самое лучшее, если бы и совсем убрали его из Одессы… К обычному недовольству графа присоединялись теперь и новые раздраженные чувства. Не то, чтобы Елизавету Ксаверьевну серьезно уже он ревновал, но он считал глубоко неприличным и для себя оскорбительным, чтобы самое имя Пушкина могли поминать рядом с именем графини. А между тем его поминали и, больше того, намеками, полусловами и недомолвками давали понять о зарождавшейся этой близости и самому всесильному графу.
В этом было большое наслаждение для многих и многих. С одной стороны, это было выражением самых добрых, чувств к Воронцову — предостеречь, вовремя открыть глаза, с другой же — «ага, тут и вы, ваше сиятельство, не всемогущи… тут и вы, как все мы, грешные…» Воронцов однажды попробовал на эту тему заговорить, очень осторожно и сдержанно, с самой Елизаветой Ксаверьевной. Одним своим взглядом она его остановила: у него не было права с нею так говорить.
Как бы то ни было, для Пушкина снова дорога — по бессарабской земле… От. Тирасполя до Бендер всего десять верст. Но в воздухе уже зареяли ранние зимние сумерки. Липранди же должен был явиться еще к Сабанееву, и было решено в Тирасполе заночевать. Иван Петрович Липранди остановился у брата, Павла Петровича, и очень звал Пушкина с собой к Сабанею. Александр отговаривался, что надо почиститься, что ему очень лень, что он устал. Но генерал прислал за ним ординарца, и пойти все же пришлось.
У себя дома генерал Сабанеев казался совсем другим человеком, не тем, каким проявлял себя в служебных делах. Пушкин не раз уже отмечал эту черту у многих людей: снимая и надевая мундир, они соответственно как–то меняют и душу. Он, конечно, и дома так же был суетлив и подвижен и заставлял вспоминать чудачества его на балу у Воронцова. Но даже и эта «изнанка Суворова» была интересна. Пушкину очень к нему не хотелось идти, но раз уж попал, любопытство заговорило. Да и принял он гостя с радушием.
— И какой же вы мальчик еще! — певуче пропела Пульхерия Яковлевна, жена генерала, поглядывая на Александра, как на подростка.
— А мы, матушка, — ответствовал муж, — такие уж с ним рождены: из молодых, да ранние, из маленьких, да бедокуры!
Сабанееву очень нравилось, что и Пушкин подвижен, что и ростом мал; уже одно это в нем пробудило симпатию к молодому поэту. Генерал и его сумел вызвать на разговор, и сам болтал с удовольствием.
— Бендеры весьма замечательный город, — рассказывал Сабанеев. — И даже не тем, собственно, что у турок брали его мы три раза, — граф Панин брал, Потемкин брал и, наконец, взял Мейендорф, — а тем, государь мой, Бендеры весьма замечательны, что это город бессмертных. Да Иван Петрович вам, верно, рассказывал? Там, кроме солдат, никто не умирал от самого присоединения области и до сего дня. Но в чем тут секрет, открыл, собственно, я. И, коли хотите, я вам расскажу.
Как было не заинтересоваться этим рассказом!
— Изволите видеть, я получил здесь, в Буджаке, десять тысяч десятин земли. Государь пожаловал мне после смотра. Половину я тотчас продал главнокомандующему, а половину решил заселить. Все это события, можно — сказать, последних дней. У меня это быстро. В Тульской губернии подрядили мне однодворцев. Ну, приехали переселенцы, а двух семей нет. Видишь, их напугали: «Вас Сабаней закрепостит!» Пропали. Как иголку — не сыщешь. И вот бабы две прибегают, как сумасшедшие. Личики — так!
И Сабанеев уморительно представил, какие у них были личики, перекосив сам лицо, плечи, руки.
— Мужей их, видите, арестовали, и уже должен приехать палач бить их кнутом. Картинка, а? А таков городок! Он весь населен беглыми. А как кто умрет, его паспорт переходит к новоприбывшему: так по паспорту все и бессмертны! Вот и все. А этим новоприбывшим — меня испугавшимся, — достались паспорта несчастливые. Вот и все-с. Едва я их отстоял.
«А быть может, и Искра таков? — подумалось Пушкину. — И вообще прелесть какая: мертвые души — живые души… Сюжет!»
О Бендерах рассказы были неисчерпаемы. Особенно Сабанеев распространялся об изумительно ловких, искусных фальшивомонетчиках, обосновавшихся там же. Пушкин невольно вспомнил своего Полифема.
На другой день с утра оба, Липранди и Александр, были в Бендерах.
— А где же ваш Искра? — с живостью и нетерпением спросил Пушкин у полицеймейстера Бароцци.
— А там, — отвечал хозяин. — На заднем крыльце. Да вы не беспокойте себя. Мы его позовем, когда вы захотите.
Но Пушкин едва дослушал. «Искра!» Он не хотел терять ни минуты.
На заднем крыльце действительно стоял человек, высокий, громоздкий. Он опирался, немного пригнувшись, на большую дубину. Что–то страшно знакомое было в этой могучей спине. Неужели же?.. И эти рассказы о фальшивомонетчиках…
Пушкин негромко позвал:
— Полифем! Тот обернулся.
— Да какие же у тебя длинные ноги…
Старый знакомец по Крыму и Кишиневу — монах и разбойник — открыл уже было рот, но за Пушкиным скрипнула дверь, и лицо Полифема сразу стало бесстрастным. Александр, впрочем, все же заметить успел едва уловимое, но выразительное движение бровью и глазом, умолявшее его о молчании.
Им помешали: Бароции почел неприличным оставлять приезжего гостя из канцелярии наместника на черном ходу, и «Искру» позвали в квартиру. Пушкину очень пришлось себя сдерживать, но он обходился с монахом совсем как с незнакомым. Впрочем, по пути на место бывшей Варницы они успели потихоньку перекинуться несколькими словами.
Полифем в своей роли был неподражаем. Он очень точно все разузнав, как, по преданию, расположены были оковы, редуты, показывал и называл, как если бы видел все самолично.
— А короля шведского, господа мои, принял я даже с первого глаза за простого слугу. Яички я приносил, молочко, творожок. Так он выйдет, бывало, и каждое яичко — на свет!
Нельзя было не подарить престарелому «Искре», как когда–то в Крыму, ассигнацию за его на этот раз уже не мифологические, а исторические «воспоминания»; к тому ж Полифем для них потрудился, а это ему принадлежит мудрое изречение: «всякий труд должен быть благодарен»… Пушкину вспомнилось, между прочим, из рассказов Александра Раевского, что первый словесный донос на Мазепу Кочубей отправил Пегру через бродячего монаха Никанора… Как Русь еще не устоялась, как и доселе переливается с места на место, точно сама себя ищет в этих бродячих Полифемах и Лариных!
На обратном пути снова пришлось заночевать в Тирасполе. Иван Петрович Липранди уехал в Кишинев, а брат его, Павел Петрович, на другой день утром сообщил Пушкину, что Сабанеев разрешил ему повидаться с Владимиром Федосеевичем Раевским. Это известие было для Александра совсем неожиданным. Словно прочли его мысли. Он сюда ехал и думал: брата родного не допустили, а ему уже нечего и думать… И вдруг какой неожиданный оборот! Он осведомился об условиях свидания. Условия обычные: в присутствии коменданта или дежурного. Пушкин, немного помедлив, наотрез отказался, сказав, что спешит в Одессу к определенному часу. Это не было правдой, это было первое пришедшее в голову объяснение.
Пушкин принял это решение быстро, но оно было продиктовано не какою–либо одной единственной мыслью.
С какою бы радостью он повидался с Владимиром Федосеевичем! У него накопилось так много больных, острых раздумий, которыми если и поделиться, так именно с ним… Но разве же это возможно при посторонних? Это и было первою в нем вспыхнувшей мыслью.
Ну хорошо, а если бы даже и без посторонних? Что же, прочесть ему: «Паситесь, мирные народы»? Да ведь это — убить последнюю, хотя бы только «упрямую» бодрость. А делать лишь вид, что все идет не так–то уж плохо, — да разве это возможно? Да это просто и недостойно.
И другие еще, уже более житейские мысли переплелись в ту же минуту с этими основными, вырывавшимися из глубины. Он не забыл, что ведь не кто иной, как именно Павел Петрович Липранди производил обыск и арестовал Раевского в Кишиневе. Это всегда оставалось для него загадкой. С братом его, с Иваном Петровичем, несмотря на всю близость их отношений, он об этом никогда не поминал и для себя остановился на мысли, что младший Липранди просто исполнял приказание Сабанеева, которому, в свою очередь, приказали; все это называется коротко: служба! И, кроме того, Павел Петрович, как человек, был ему просто очень приятен…
Но когда он сообщил о возможности этого свиданья Пушкину и о том, что его разрешил сам Сабанеев, безо всякой притом просьбы, у Александра вспыхнули самые неприятные подозрения и по отношению к Сабанееву… А что, если это подстроено и чем–нибудь может Раевскому повредить? Раевскому, а может быть… А может быть, это ловушка и для него самого? И сам Воронцов так легко его отпустил!
И ему захотелось бежать из этого места, где все так неясно и где все обернулось так подозрительно.