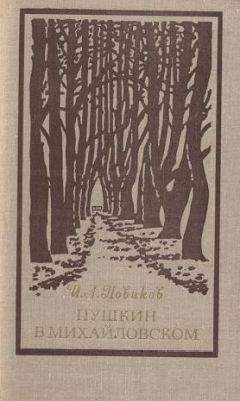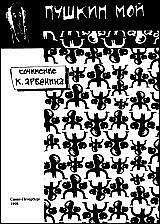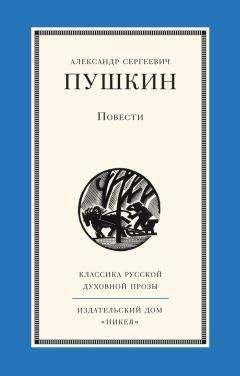Иван Новиков - Пушкин на юге
А Елизавета Ксаверьевна? В такие минуты он забывал и ее. А ей, как хозяйке, могло это быть и неприятно. Он обрывал сам себя и отходил от собеседника. Ему становилось неловко за проявленную им несдержанность, хотя это и не было его основным ощущением. Он страдал от того, что она может его не понять, что она в эту минуту может быть с теми, кто сам его вызвал на подобную вспышку. С ними? — она? — против него?
И он избегал ее, боясь подтверждения своих подозрений, но вдруг ловил этот взгляд — светлый и… понимающий. Порою в глазах ее пробегал огонек, как если б она даже и одобряла: «Так им и надо. И поделом!» И снова все расцветало вокруг, и становилось легко, упоительно… И как только мог он подумать! Но даже и самое раскаяние это было светло. Не надо терзать ни других, ни себя!
И вот снова был бал! Искрился, переливаясь, хрусталь от сотен свечей, играло в бокалах вино, светились глаза. Под музыку двигалось ритмически плавно множество пар, блистая мундирами и орденами, щелкая шпорами, шурша и благоухая шелками. Но, как все на свете, — как непохоже одно на другое! Празднества в Каменке, где было никак не меньше богато, но где рядом с этим, над этим пылал настоящий костер возвышенных мыслей и чувств, где строились планы великих событий в жизни страны; или балы в Кишиневе у Варфоломея — также на святках, — где все, напротив, так было открыто и простодушно, что дева Пульхерица, казалось, цвела, как цветок на лужайке, и знойным ветром степей врывалась туда же цыганская песня… Тут было все по–иному, напоминая разве, отчасти, Тульчин.
Настоящего бала в Тульчине при Пушкине не было. Но он отчетливо и там ощущал ту же самую «музыку сфер», где у всякой планеты, у каждой звезды были свои точно определенные орбиты. А Пестель? Павел Иванович Пестель был сам по себе, сам он был центром особой, малой вселенной. И Тульчин остался для Пушкина — в памяти, в жизни — связанным вовсе не с Киселевым, а именно с Пестелем.
Мир был велик, и мир одновременно был тесен. Красавицу Ольгу Нарышкину, неизменно бывавшую у Воронцовых, Пушкин знал именно еще по Тульчину. Сестра ее Софья была замужем за Киселевым, и ею весьма увлекался друг Пушкина, Вяземский. Ольга, гостя в Тульчине, завязала роман с мужем сестры. Кажется, было похоже на то, что в Одессе теперь то же самое повторялось и с Воронцовым, двоюродным братом ее мужа. Пушкин раз вспомнил, как его вызвал перед высылкой, из Петербурга граф Милорадович, генерал–губернатор. Ольга Нарышкина слушала и смеялась:
— Когда б я про то была извещена, мне довольно бы было одного движения пальца, чтобы поэту помочь…
И она поводила изящным мизинчиком; и на нем блеснул изумруд; и блеску его надобно было верить: у Ольги Нарышкиной был роман и с Милорадовичем. Можно было подумать, что она была своеобразным коллекционером.
На балах у Воронцовых Пушкин встречал и старых знакомцев: тут был и Павел Сергеевич Пущин, осевший и полинявший, и генерал Сабанеев. Этот крохотный живчик, однако же генерал от инфантерии, всех насмешил на январском костюмированном балу странным своим нарядом. Он явился во фраке, прикрепив к нему множество иностранных орденов. Они сверкали, звенели, цеплялись один за другой, и сам он, маленький, с развевающимися фалдами фрака походил на какую–то юркую мушку, вымазавшуюся в меду и шныряющую между людей, чтобы стереть с себя эти блестящие пятна.
Впрочем, на сей маскарадный костюм очень обиделись консулы многих иностранных держав. Позже стало известно, что и сам государь опереточным этим выступлением своего генерала остался весьма недоволен. Пушкину же выходка Сабанеева, напротив того, очень понравилась.
— Что ж, — говорил он, смеясь. — Ведь русского ордена он ни одного не надел!
Пушкин не думал, что об этом известном ему персонаже скоро придется ему задуматься совсем с другой стороны. Но пока никакие тяжелые мысли его не смущали. Он отдавался самозабвенно мечтам… Еще двенадцатого декабря, на «великом балу», как он сам для себя называл это празднество, из графининых уст он услышал нечто, его весьма взволновавшее. Всем было известно, что Воронцов в Крыму покупал земли. Он приобрел, между прочим, и отделывал заново тот самый дом в Юрзуфе, где Пушкин в двадцатом году был вместе с Раевскими. Работы шли быстро, и на зимнем балу уже говорили о лете и мечтали О дивной поездке морем в Юрзуф.
Воронцов приглашал, и приглашал широко. Мимо него он, однако, прошел, как если бы на том месте не было даже и стула. Что–то замерло в Пушкине, и что–то тотчас загорелось. Но он подавил это чувство и постарался, чтобы его никто не заметил. И вот мимо гостей к нему подошла Елизавета Ксаверьевна. Легкая краска проступила у нее на щеках.
— Вы не слышали, кажется, новость, — сказала она с великолепной непринужденностью. — Мы решили летом устроить большую поездку в Юрзуф. Вы знаете эти места и даже знаете дом. Я была б очень рада услышать ваше согласие сопутствовать нам.
Пушкин слушал, и сердце его билось шибко, тревожно.
— Но, графиня…
Она остановила его легким движением руки.
— Когда я приглашаю своих друзей, мне не хотелось бы слышать никаких «но».
Он молча ей поклонился. Она прошла дальше.
Так вышло все это по–особенному. Если бы просто пригласил его Воронцов, как пригласил Олизара и даже Туманского, — тоже поэтов, — то это было бы просто нормально и, конечно, приятно. Но приятность вся заключалась бы лишь в перспективе этой летней поездки. Теперь же было нечто совсем другое: он приглашен — вопреки! И графиня его пригласила в числе своих друзей. А потому это была еще и радость победы.
И уже через неделю он даже звал Вяземского — словно к себе — провести предстоящее лето в Крыму, «куда собирается пропасть дельного народа, женщин и мужчин».
О, скоро вас увижу вновь,
Брега веселые Салгира!
Но в эти же зимние дни Пушкина глубоко взволновала и еще одна новость, уже совершенно другого рода. Он узнал от одного из чиновников, что в Одессе задержан был младший, любимый брат Владимира Федосеевича Раевского, пробиравшийся в Тирасполь, чтобы как–нибудь повидаться там с узником. У молодого человека документы оказались не в порядке, и его арестовали. Вся эта история Пушкину тяжело легла на душу: это было жестоко, бесчеловечно; это была отвратительная изнанка всего этого блеска мундиров, увешанных орденами…
И снова несколько дней Пушкин ходил с мыслями о далеком друге своем, томящемся в заточении. И это не было мыслями только о нем. А те мысли, идеи, за которые он пострадал? Это великое дело, за которое отдавал свою жизнь? Ах, сколько раз он отводил себе душу в беседе — воображаемой — с тираспольским узником, но это были беседы лишь с самим собою.
И вот как раз в эту пору из Бессарабии вернулся Липранди. Он из поездок своих всегда привозил интересные новости. На сей раз он рассказал про одного старика, которого видел в Бендерах. Старик этот будто бы помнил Мазепу и Карла Двенадцатого. Слухи ходили, что в Варнице, на берегу Днестра, совсем недалеко от Бендер, была могила Мазепы.
— А как зовут того старика?
— Представьте, его фамилия — Искра.
Пушкин в Киеве был на могиле полтавского полковника Ивана Ивановича Искры, которого обезглавили вместе с Кочубеем в местечке Борщаговке, близ Белой Церкви, имения Воронцова. От Александра Раевского, прожившего там почти весь прошлый год, Пушкин слышал кое–что из местных преданий, сохранившихся о Василии Кочубее и его дочери, об Искре и о Мазепе. История Украины всегда живо его интересовала. И вдруг: «Представьте, его фамилия — Искра!»
— Да сколько же лет тому старику?
— А я считал, по моему расчету выходит ему около ста тридцати пяти лет.
— А на вид?
— Представьте, на вид всего лет шестьдесят. Бодрый, здоровый.
— Иван Петрович, возьмите меня с собою в Бендеры! Так Пушкина поманила возможность вновь побывать в Бессарабии.
Липранди этой своей статридцатипятилетнею редкостью, лицезревшею знаменитого короля–воина, заинтересовал и Воронцова. Граф приказал ему, чтобы бендерский полицеймейстер Бароцци вызвал к определенному сроку Искру в Бендеры, он сам пожелал его видеть. Все это было исполнено, и через две недели, вернувшись снова в Одессу, Липранди доложил о том Воронцову. Граф прособирался два дня, но дела его не пустили, и он разрешил Пушкину эту поездку.
Воронцов охотно разрешил бы беспокойному своему подопечному поездку куда–нибудь и подальше, а самое лучшее, если бы и совсем убрали его из Одессы… К обычному недовольству графа присоединялись теперь и новые раздраженные чувства. Не то, чтобы Елизавету Ксаверьевну серьезно уже он ревновал, но он считал глубоко неприличным и для себя оскорбительным, чтобы самое имя Пушкина могли поминать рядом с именем графини. А между тем его поминали и, больше того, намеками, полусловами и недомолвками давали понять о зарождавшейся этой близости и самому всесильному графу.