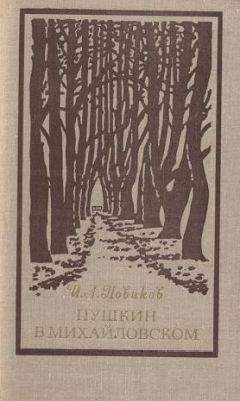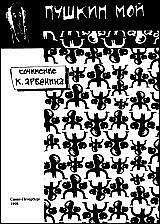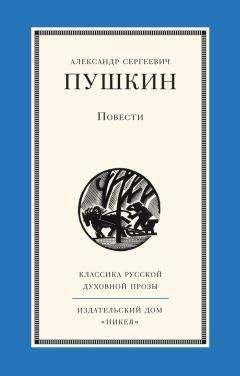Иван Новиков - Пушкин на юге
На обратном пути внезапно он понял, что Кишинев покидал насовсем, и на душе его зашевелилась горькая мысль, что не нашел как–то слов при расставании с Инзовым. С ним вообще иногда это случалось. Всегда экспансивный, живой и находчивый в споре, полемике, в пылу разговора — тихие чувства свои он в слова облекал с запозданием, с какой–то в конце концов все же понятной заминкой.
А у Ивана Никитича все это просто, тепло. Он обнял своего подопечного дружески, задержав на его плече руку дольше обычного, и на прощанье сказал:
— Мы тут жили с тобою по–деревенски, там ты будешь на полном свету. Но там этак, чтоб по–простому… не обольщайся, не жди.
Инзов более знал и далее видел, чем Пушкин. У Александра тогда пело в душе и от моря, и от огнем охватившей его страсти к красавице Ризнич, но в дороге и он от души по Кишиневу вздохнул. И сам Кишинев, и Каменка, Киев, и побег его в степи, в Тульчин… Да, эти поездки его и все, что связано с ними, — могло ли бы все это быть, когда бы не Инзов? Все это стало возможным, и свершилось все лишь потому, что цепь его была в доброй руке.
И хоть, правда, здесь под арест его никто не сажал, но скоро он стал ощущать — и невзирая даже на море! — отсутствие вольного воздуха. И отношения с Ризнич скоро ему стали мучительны, и нестерпимее день ото дня становились сношения с Воронцовым. Как все это непохоже было на Инзова!
Тот порою ворчал и сердился, но он был не над Пушкиным, а сбоку, с ним рядом, — Воронцов же и глядел–то не как–нибудь, а с высоты. Инзов не был «начальником», не был сановником, — важным сановником, высоким начальством был Воронцов. Инзов был ласков и добр, сам того не замечая, — Воронцов был любезен рассчитанной холодной любезностью, которая Пушкина просто бесила. Инзов был весь от природы, Воронцов же был «сделанный». Инзов был человек, и юноша Пушкин был для него — человек, и ничто человеческое им обоим не было чуждо, а что ж Воронцов — ужели не человек? И Воронцов человек, и человек со страстями, но и они в нем были холодными, а как честолюбие есть самая холодная из страстей, то и был он — более честолюбец, чем человек, а Пушкина видел, и очень при этом на далеком от себя расстоянии, просто–напросто мелким чиновником в должности архивариуса.
Этот чиновник, однако, не только сидел в обширной библиотеке вельможи (там он рылся в шкафах и на полках с большим прилежанием и с истинным удовольствием, откапывая для себя преинтересные документы), но он позволял себе много больше. Эта его независимость, колкость, насмешливость бесили уже Воронцова. Начальник края не позволял себе снизойти до прямых пререканий с этим распущенным молодым человеком, ибо и самые страсти графа Михаила Семеновича были организованными, и он лишь порою ронял несколько слов уже с неприкрытой надменностью. Вызвать за это его на дуэль? Невозможно. И Пушкин тоже ронял… эпиграммы.
Что–то сгущалось не только в личном одном бытии самого Пушкина. Потерпел крушение генерал Орлов. Да и всюду так. Даже Денис Давыдов, прирожденный военный, вышел вчистую.
Город был полон рассказов о смотре войск второй армии Витгенштейна. Государь остался доволен и всех осыпал милостями. Окончательно забыта была и дуэль Киселева с генералом Мордвиновым, который был им убит. Об этой дуэли также спорили много, и Пушкин горячо ратовал за убитого, доказывая, что он проявил более чести, вызвав лицо, стоящее выше его по службе. Горячность эта была многим понятна, но сам он не высказывал, однако же, и другой важной причины, почему Киселев так его раздражал: лишь недавно ему стало известно, что Владимир Раевский был арестован именно по его приказанию. Как бы то ни было, Киселев остался любимцем императора.
Пушкин услышал также и о Павле Ивановиче Пестеле. Год тому назад ему дали совершенно расстроенный Вятский полк, и за один год он привел его в образцовый порядок. Царь отозвался: «Превосходно! Точно гвардия». И пожаловал Пестеля, в числе других, арендою в три тысячи десятин земли.
Пушкин ни на минуту не усомнился в полковнике Пестеле. Но какова ж должна быть его выдержка, и… для чего он себя бережет? И ужели же государь так–таки ничего и не подозревает? А между тем в армии было до сорока человек разжалованных офицеров и, невзирая на то, что за них просил сам Киселев, — согласившись на все другие его просьбы, в этой одной император ему отказал.
Порою Пушкину казалось, что ничего так–таки никогда в мире и не произойдет. Он завидовал Байрону, уехавшему сражаться за свободу Греции, но и в Одессе он видел одну неприглядную изнанку греческого движения. За Пиренеями французские войска разгромили революционную Испанию, уничтожили конституцию и восстановили королевскую власть. Вождь революции Риего был казнен. Когда известие о том, что он заключен в тюрьму, было получено царем во время обеда после смотра и государь громогласно о том сообщил, Воронцов воскликнул: «Какая счастливая новость, ваше величество!»
В Одессе, как и там, за царским столом, все были смущены этою выходкой. Пушкин позже отвел себе душу убийственною эпиграммой, еще сгустив краски: новость в его стихах гласила не об аресте, а о казни Риего.
Сам государь такого доброхотства
Не захотел улыбкой наградить:
Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить
И в подлости осанку благородства.
С Александром Раевским Пушкин виделся часто. Они много и о разных вещах говорили. Пушкин читал ему «Бахчисарайский фонтан». Поэзия до этого слушателя доходила с трудом, но тем интереснее были отдельные его злые замечания. Он очень издевался и хохотал над «обмороком в бою» хана Гирея и с наслаждением повторял:
Он чисто в сечах роковых
Подъемлет саблю и с размаха
Недвижим остается вдруг,
Глядит с безумием вокруг,
Бледнеет, будто полный страха,
И что–то шепчет, и порой
Горючи слезы льет рекой.
— Хорошо, что хоть слезы порой проступают, а то совсем статуя, монумент.
Пушкину трудно было что–нибудь возразить. Ему живо вспомнилось, как в Юрзуфе однажды он так же задумался над неподвижным своим черкесом, который, невзирая на это, «шашкою сверкал».
— Ты прав, — отвечал он Раевскому. — Молодые писатели вообще не умеют изображать физические движения страстей. Читателя это может смешить.
Александр Николаевич был доволен, но все не унимался:
— А впрочем, и слезы его делу не помогают. Это просто какой–то второй бахчисарайский фонтан: монумент, источающий влагу.
Пушкин на это ничего не ответил, но про себя подумал: «А что ж, это и критика, и неплохая моя находка!» Он очень ценил такие непроизвольно возникавшие соответствия, и стихи остались, как были.
Но гораздо все было тяжелей и мрачней, когда разговор заходил о политике — тут же или в какую–либо другую из встреч: «Печальны были наши встречи…»
Оба они опять вспоминали письма Орлова к Александру Раевскому на Кавказ. «И я очень думаю, что девятнадцатый век не пробежит до четверти без развития каких–нибудь странных происшествий».
— Это писал он мне в двадцатом году. Осталось немного до истечения четверти века. И что ж? Странные происшествия действительно уже наступили, но только… для самого Орлова. Он назначен «состоять по армии», а это значит теперь…
— В подмосковной?
— Вот именно! А это и значит теперь, — упрямо повторил Раевский, — состоять уж никак не по армии, а всего только «по фабрике и заниматься своими делами». Так он сам определил в письме к Катеньке. Вот и все «происшествие»!
Потом Александр Николаевич переходил к Греции, Италии, Испании. Везде народные движения были подавлены. Так неужели у нас что–либо подобное могло бы иметь успех? Он говорил с сарказмом и злостью. Морщина между бровей, унаследованная им от отца, становилась все резче, он был так худ и костляв, что в сумерках, при своем высоком росте, становился похож не на человека, а на обитателя иного мира, злого духа, клевещущего на земной мир, презирающего вдохновение и называющего пустой мечтой все прекрасное.
В такие минуты Раевский становился почти страшен. Пушкин зажигал свечи, но редкие тени делали выражение лица его еще более зловещим. И Пушкин гасил свечи. Так ему легче сопротивляться.
Позже, ночью, он размышлял о царе Александре и Наполеоне. Владыку Севера, принесшего миру тихую неволю, и этого всадника, пред кем склонились цари, казнившие его позже мучением покоя, — ему хотелось вызвать их на очную ставку. Строки ложились на бумагу одна за другой, но замысел этот так и остался недовершенным.
Пушкин и сам прикован был к одному месту, испытывая великую духоту этой «тихой неволи» и мучаясь «мучением покоя», а речи Раевского могли довести до отчаяния.
Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды…
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.