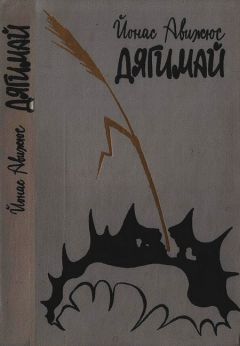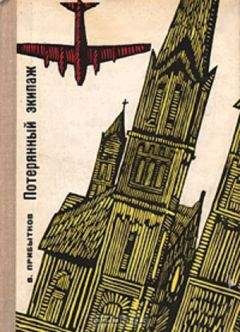Йонас Авижюс - Потерянный кров
Весело поскрипывает под ногами паркет. Раньше приглашала натирать приходящую прислугу, а сейчас хочет это сделать сама. Трудновато с непривычки. Спину ломит, семь потов сошло, но Милда в яростном самозабвении трудится, не давая себе отдыха. Передвинула мебель. На место одних картин повесила другие, которые когда-то сняла. Дверь на половину Адомаса заставила платяным шкафом: теперь она будет ходить через террасу. Оттуда можно попасть и на кухню. Вещи Адомаса — чемодан, сапоги, старую одежду, висевшую на террасе, — перенесла в прихожую. В сущности, могла и в шкаф запихать в его комнате, но побоялась: нельзя входить туда, а то исчезнет иллюзия свободы.
Итак, вещи на новых местах. Одна комната блестит, паркет натерт. Хватит на сегодня! Есть хочется ужасно. Надо бы обед приготовить. Но дома хоть шаром покати, одни продуктовые карточки. В лавку! Вытряхивает содержимое сумочки на стол, пересчитывает деньги. Странное чувство — никогда их не считала, разве что в лавке или на базаре, покупая что-нибудь. Сто марок с пфеннигами. Да и те Адомасовы. Смешно! Когда же у нее были свои деньги? Пожалуй, те несколько месяцев, что работала кассиршей. Надо бы подыскать службенку…
В прихожей трезвонит телефон. «Мадам Баерчене соскучилась? Или другая дамочка жаждет, чтоб я помогла ей убить время». Милда торопливо надевает пальто и выбегает из дома. Влажный ветер плюется в лицо, швыряет за шиворот мертвый яблоневый лист. Показалось, будто по шее бритвой полоснули. Бр-р! Даже оторопь взяла. Смерть… Меньше всего она хотела бы умереть сейчас. Откуда эти дурацкие мысли! «Эх, у беременных вечно всякие странности!» Начинает считать, сколько чего дадут на карточки, — видно, придется сходить в деревню сменять кое-какое старье на масло, — и настроение понемногу выравнивается. Из лавки выходит с полной сумкой. Правда, одна видимость, — была бы и вовсе пустая, если б не хлеб. Кусочек жилистой говядины, банка консервов, фунт сахара и фунт маргарина. На карточки Адомаса она получила бы масло, свиной жир или хорошее, свежее мясо. Да уж, эти господа не голодают.
— Минутку… минутку, мадам Милда.
Милда поворачивается к человеку, который ее догнал. Обрюзгшее лицо, знакомые усики.
— Господин Саргунас!
— Тише, тише, мадам Милда!
— Что вам нужно? Я спешу… — Она враждебно, с растущим беспокойством смотрит в расплывшееся лицо.
— Не взыщите, что без должного обращения… Такая ситуация, понимаете… Хотел поймать господина Адомаса, но он отбыл в деревню, никто не может сказать, когда вернется. А у меня через два часа поезд. Мне надо кое-что передать господину Адомасу. И вообще нам надо бы побеседовать, мадам Милда.
— О чем? — резко бросает она на ходу.
— Я знаю ваш образ мыслей, мадам Милда. Может, поэтому нам и стоит побеседовать, что знаю. Жизнь меняет человека. Многие, раньше упорно державшиеся одной позиции, сейчас переходят на другую. В историческую годину люди производят переоценку ценностей, а что касается вас…
Милда больше не слышит Саргунаса. С радостным удивлением смотрит она на женщину, которая идет по другой стороне улицы. Клетчатый, по-девичьи повязанный платок; серая сермяжная куртка, ботинки на шнурках не слишком красят стройные ноги, обтянутые шерстяными чулками.
— Простите, господин Саргунас, но я с вами прощаюсь. Аквиле!
Женщина остановилась, бросает беглый взгляд через улицу. На лице робкая улыбка.
— Как жаль, как жаль, мадам Милда… В таком случае не откажитесь передать Адомасу вот это. — Саргунас нагнулся, и Милда не успела опомниться, как он сунул к ней в сумку пухлый конверт большого формата. — Надеюсь, до скорой встречи, мадам Милда. Поклон господину Адомасу!
— Подождите, господин Саргунас… «Мы с Адомасом разошлись!» — хочет крикнуть она, но тут Аквиле двинулась дальше, и Милда, забыв все, бросилась вдогонку.
Женщины улыбаются, смотрят друг на друга. Наконец Милда берет Аквиле под руку и, не обращая внимания на ее неуверенные протесты, ведет к себе. Боже мой, они ведь так редко встречаются! Едва ли не с весны, с того несчастья, не видались. Почему Аквиле не заглянет, ведь она бывает в Краштупенай? Только не называй меня госпожой Милдой. Мне так не хватает друзей, Аквиле. Диву даюсь, как мы не подружились в гимназии.
— Мне было чудесно у вас те два дня… весной, — говорит Аквиле. — Вы так ухаживали за мной, госпожа Милда…
— Аквиле!
— Не сердитесь. Мы ведь так мало знакомы…
— Ты одна?
— Мда… У Кяршиса, как всегда, тысячи дел. — Аквиле заливается румянцем. В глазах гаснет невысказанная мысль, но Милда этого не замечает.
— Чем мне тебя угостить, гостья дорогая?
Аквиле отнекивается: мол, стемнеет, пока она доберется до дому, — но Милда ничего не хочет слышать. Заставила гостью снять куртку, ведет на кухню: вдвоем они быстрей приготовят легкую закуску. А когда ужин готов (консервы, бутерброды с маргарином и колбасой, кофейник горячего желудевого кофе), Милда вынимает из буфета бутылку яблочного вина, высокие бокалы на тонких ножках, и они несут угощение в комнату. В натертую до блеска, пахнущую скипидаром, звонкую, как корабельный лес, комнату.
— Красота-то какая… Господи! — Аквиле неуверенно смотрит на свои грязные ботинки, но Милда этого не замечает.
— Красота, говоришь? Это я все сама. Аквиле, милая, ты даже не понимаешь, как я сегодня устала и как счастлива! Нет, не то слово. Мне просто легко на душе.
Словно сняли горб, который я таскала всю жизнь. Ты не сердишься, что я бросаю Адомаса?
— Я понимаю вас… тебя, Милда.
— Спасибо, Аквиле. — Милда пожимает руку своей гостьи. Белая нежная лапка касается заскорузлой почерневшей руки. — За нашу дружбу, милая! До дна. А потом я тебе поиграю. Господи, целую вечность не играла!
Они выпивают по бокалу, наполняют по второму, и Милда идет к пианино. Музыка заглушает трезвон телефона в передней.
Аквиле, съежившись, смотрит на хрупкую фигурку перед блестящей глыбой черного дерева, и ей чудится открытое настежь окно, желтые подсолнухи, а за ними — белый мотылек. Последний мотылек лета.
Горит далекая звезда…
Мы будем там, я верю.
В серебряной ночи туда
Пойдем искать потерю,—
поет Милда; она мечется за пианино, словно птица на цепи у мраморной плиты.
— Красота… — шепчет Аквиле.
— Слова Гедиминаса! — бросает Милда через плечо; голубые глаза лихорадочно блестят.
Аквиле отхлебнула вина. Она вдруг затосковала. От рвущей сердце музыки, от сверкающего паркета, от холодного черного пианино. Украдкой смахнула слезы, в отчаянии смотрит на свой кулак. Не кулак — кулачище на ослепительно белой скатерти.
А музыка льется. И птица бьется крыльями о черную мраморную плиту.
Горит далекая звезда…
Мы будем там, я верю.
Наконец Милда оттолкнула стул, идет к Аквиле, не закрыв пианино, которое теперь ощерилось белыми зубами.
— Расчувствовалась, Аквиле? Когда-то я неплохо играла. Сейчас часто сбиваюсь. Надо каждый день заниматься. Ты любишь музыку?
— Хорошо… У тебя красивый голос, Милда.
— Это потому, что слова такие, Аквиле.
— Гедиминас умеет сочинять стихи.
— Аквиле… — Милда наклоняется к ее уху. — Скажу тебе по секрету — даже Гедиминас не знает, — у меня будет ребенок…
— Что ты говоришь?!
— Странно, правда? Мне самой странно. Никогда я не хотела детей. Наверно, только любовь так меняет человека.
— Хорошо, Милда, что ты счастлива… Я рада…
— Когда с тобой случилось несчастье, я еще не понимала, что значит — потерять ребенка.
— Нехорошо вышло, но, может, оно и к лучшему.
Милда молчит, потрясенная словами Аквиле. Поднесла бокал к губам, задумавшись, пьет маленькими глотками до дна.
— К лучшему, — упрямо повторяет Аквиле. — Ребенок никому не был нужен..
— Прости, милая… Хочешь, я еще поиграю?
— Нет, спасибо, Милдяле, у тебя чудесно, но мне уже пора. — Аквиле торопливо встала. — Я соврала, что пойду пешком. — Кяршис меня ждет. Привез кому-то взятку — полсвиньи: хочет достать дизельный мотор. Передвижную лесопилку собирается завести. Пока от движка никакой пользы — бензина не достать. А вот когда все успокоится, Кяршис будет деньги лопатой загребать.
— Кяршису пальца в рот не клади, — скупо улыбается Милда, не зная, как отнестись к иронической реплике Аквиле.
— О, на такие гешефты он мастер! В один прекрасный день и меня всучит спекулянту вместо чушки.
— Побойся бога, Аквиле! Что ты говоришь! Он же тебя любит!
— Он любит и своего савраса. А еще больше — буланку, что купил этим летом… — Аквиле встала. — У тебя, правда, хорошо, Милда, но мне пора. Загляни к нам в Лауксодис, рады будем.