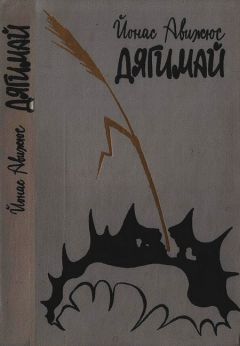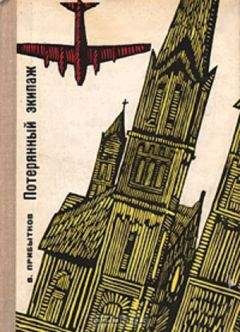Йонас Авижюс - Потерянный кров
— О, на такие гешефты он мастер! В один прекрасный день и меня всучит спекулянту вместо чушки.
— Побойся бога, Аквиле! Что ты говоришь! Он же тебя любит!
— Он любит и своего савраса. А еще больше — буланку, что купил этим летом… — Аквиле встала. — У тебя, правда, хорошо, Милда, но мне пора. Загляни к нам в Лауксодис, рады будем.
— Обязательно, Аквиле. Но и ты не обходи стороной нашу улицу. Нам с тобой надо дружить.
Смотрят друг на друга и жалобно улыбаются. Протянули руки для прощания, но так и не пожали — обнялись.
— Я рада, что ты счастлива, Милда.
— Потерпи, Аквиле. Жизнь справедлива, она и тебя не обойдет.
— Я ведь не жалуюсь, — получила, что хотела: хорошего хозяина, сытную еду, теплый кров. Убеги я тогда с Марюсом, сейчас бы собакой выла и еще бог весть где.
— Найдешь своего Марюса, милая.
— Нету его, Милда, давно уже нету.
— Каждой из нас сужден свой Марюс, только не все мы сразу его находим.
Милда вытирает слезы Аквиле, плачет сама. Она уже сердится на себя за то, что открыла пианино, пела, заговорила о ребенке. Вообще разрезвилась. Угнетенная неясной тревогой, стоит во дворе, глазами провожает подругу до угла. Счастье она ощущает сейчас как предательство. Механически открывает дверь, мельком бросает взгляд на сваленные в углу вещи Адомаса, брошенный на подзеркальник пакет Саргунаса и, забыв задвинуть засов, уходит к себе. Надо бы убрать со стола, но она не может заставить себя что-нибудь делать.
Вытянулась на диване. За серой плоскостью потолка чудятся улетающие гусиные стаи, их жалобный крик. Заунывно трезвонят вечерние колокола. Угасающий день приплюснулся к стеклу посиневшим лицом. Дышит, заливая комнату безотрадным полумраком, насыщая воздух вкрадчивыми звуками — таинственным шепотом, от которого и холодно и страшно.
Гудят не переставая вечерние колокола. Отпевают город, отпевают угасающий день. Звенит в прихожей телефон: кто-то глух к вечерней молитве колоколов, слеп к агонии дня, кому-то все равно, что где-то громыхает на рытвинах телега, везущая Аквиле, женщину, которую судьба обделила счастьем.
Милда закрывает глаза. Диван качает, как лодку на волнах. («Наверное, от вина клонит ко сну…») Берега озера, шуршание камышей… широкие поля… у дороги теснятся избы… Шпилек часовни, воткнутый в белую вату облаков, гогот гусей во дворах… Деревня! Необитаемый остров Гедиминаса с парнями и девками, гармоникой, песнями, субботними танцами до седьмого пота — веселятся там так же капитально и охотно, как и работают.
Пойду, пойду, здесь не останусь,
Здесь сторона чужая…
И Милда идет, ступает по выбеленной солнцем тропе, раскатывая нескончаемую холстину. Такую же холстину тянет рядом Аквиле. Две белоснежные тропинки протянулись через чистый, умытый росой луг, и нежно-зеленая трава, весенний бархат, ласково щекочет босые ноги, до того ласково, что вот-вот повалишься на траву и расхохочешься до слез. Но они все идут и идут, тянут бесконечную солнечную тропу; знают: как только исчезнет тропа, кончится радостный сон. Идут и чувствуют, что сами с каждым шагом уменьшаются, и луг впитывает их, как влагу, пока наконец не засасывает последнюю каплю, и они исчезают.
IVПроснувшись, не сразу сообразила, что к чему. В комнате было темно, холодно, дуло из открытого окна, сквозняк скрипел дверью на террасу, пахло садом, продрогшим на осеннем ветру, и мастикой. В ушах все еще трезвонил телефон… Нет, пожалуй, это был не телефонный, а дверной звонок: Милда услышала, как стукнула дверь и в прихожей загремели шаги. Адомас! Еще сонная, ежась от холода, Милда подошла к окну, захлопнула его, закрыла дверь на террасу, включила свет и, накинув халатик, прислонилась к кафельной печке. Печка была еще теплая. Спрятала озябшие руки за спину и, прижав ладони к изразцам, постояла, закрыв глаза, чувствуя спиной холод своих рук. Шаги в прихожей затихли. Тишина слишком уж продолжительная. Может, чужой? (Смешно. Адомас-то свой?) Снова заскрипел паркет, стукнула дверь. «Пошел в свою комнату. Наверно, еще недостаточно пьян. Сейчас откроет шкаф, возьмет бутылку — наверстает упущенное…» Руки согрелись, не холодили спину. От тепла разморило, охватила приятная истома. Хорошо бы снова заснуть! Но в глаза бросился неубранный стол. Еще капельку погреется и приведет все в порядок. Усмехнулась: через комнату — за шкафом — подергали ручку двери. Стало быть, уже готов. Снова будет громыхать до полуночи. Хорошо, что перетащила сюда диван. Зимой не будет жарко — тянет от дверей террасы, — зато спокойней, чем в другой комнате. Чтобы избавиться от гнетущего чувства, которое нагоняло на нее присутствие Адомаса, Милда принялась думать о Гедиминасе. «Когда встретимся, снова небось предложит перебраться в Лауксодис». В воображении всплыло заплаканное лицо Аквиле, она вспомнила странный сон, холсты, — и вдруг, к своему удивлению, осознала, что ничто не связывает ее ни с этими комнатами, по которым гуляет сквозняк, ни с окоченевшими деревьями за окном. Разве что печка, пока не остыла, держит ее здесь, уютно дышит в спину. Но если завтра не растопить — все… Можно собрать узелок и уйти. Пианино? В деревне пианино будет звучать громче, чем в гулких каменных стенах, которые впитывают человеческое тепло и не отдают его. Деревня! Закрытые на ночь хлева, сонное тявканье собаки. Под потолком керосиновая лампа, украшенная разноцветной бумагой… Веселая пальба березовых поленьев в очаге… Шипят кастрюли… Голова Гедиминаса, склоненная над книгой. И вихрастый мальчуган. Непременно мальчуган. Ползает у ног Гедиминаса. А может, у него на коленях или в кроватке. Но вихрастый, что-то рассказывающий на птичьем языке… А за окном завывает ветер. Даже мороз подирает по спине, когда слышишь этот вой в жарко натопленной избе, где все надежно, славно и взаправду… А вот и шаги в сенях. Стук в дверь. Путник! Промокший под дождем, озябший на ветру…
— Добрый вечер, фрау Милда.
Милда вздрогнула — в дверях террасы стоял Дангель.
Без пальто и фуражки, в штатском. Серый, с иголочки костюм, белая сорочка с крахмальным воротничком, переливчатый галстук. Волосы цвета воска гладко зачесаны кверху. Одна рука спрятана за спиной, словно он тоже только что грелся у печки, другая — в кармане. На бледном лице блуждает не свойственная Дангелю улыбка: он словно извиняется за неожиданное вторжение.
— Скучаем, фрау Милда? — Голос зато был всегдашний: самоуверенный, чуть насмешливый, даже вызывающий, — голос хозяина.
— Как вы сюда проникли? — придя в себя, сердито спросила Милда. — Вы не в ту дверь попали: надеюсь, вам нужен господин Вайнорас?
— Как раз нет. Если вам угодно, я пришел, так как знаю, что его нет дома, фрау Милда. Вас это не радует? Это не удивительно: красивые женщины забывчивы.
— Вы всегда так себя ведете: снимаете пальто, обшариваете комнаты и только потом представляетесь хозяевам?
— Oh nein, madam![37] — Дангель доверительно улыбнулся. — Лишь в тех случаях, когда хозяева не встречают в передней. Тебе неприятно это слышать, дорогая?
— Нет, господин штурмфюрер. — Милда говорила, не глядя на Дангеля, но чувствовала, как он раздевает ее взглядом. — Мне неприятно вас видеть, господин начальник гестапо. Было бы лучше, если б вы ушли.
— Грустное начало. — Дангель изобразил вздох. Спрятанная за спиной левая рука повисла, и Милда, покосившись, увидела в ней пакет Саргунаса. — Ein recht trauriger Anfang[38]. А я-то думал, этот стол накрыт в мою честь!
— Прошу вас без шуток. У меня нет желания шутить.
— Простите, фрау Милда. Я не думал, что невинная шутка может обидеть женщину, с которой я в общем достаточно близко знаком. — Дангель подошел к столу, похлопывая по ноге конвертом Саргунаса, и, подняв недопитую бутылку вина, посмотрел ее на свет. — Мне очень жаль, Милда, что наши отношения оборвались. Вы для меня не очередное приключение, дорогая. Мое чувство много глубже, чем вам кажется. Ваш поэтический друг назвал бы это любовью, но я не могу выговорить это слово не поморщившись: не терплю банальностей…
— Вот уж одолжили, господин Дангель. — Милда неожиданно для себя рассмеялась и впервые за весь разговор посмотрела на Дангеля прямо, с подчеркнутой враждебностью.
— Зачем усложнять, Милда, мы же на «ты». — Дангель поставил бутылку на место и с деланной беззаботностью осмотрел стол.
— Это тоже банально, господин Дангель.
«Все банально, даже убивать людей — так поступают со времен Каина и Авеля, хотя и не с таким размахом и не так изысканно, как вы», — едва не добавила она.
Дангель швырнул пакет Саргунаса на диван. Он был вскрыт, этот пакет.
— Два бокала, две тарелки, две вилки и два ножа, — перечислил он, оглядев стол и садясь на стул лицом к Милде, которая все еще стояла, прислонясь к печке. — С господином экс-учителем пировали? Удобный случай, супруга-то нет дома…