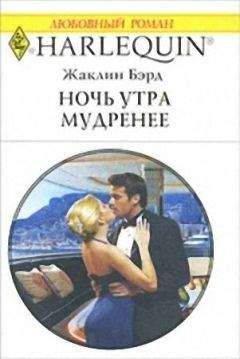Глеб Алёхин - Тайна дразнит разум
Провожая верного, близкого товарища, всегда испытываешь чувство тоски, а тут еще примешано ощущение обиды, несправедливости, ибо за «проводами с повышением» скрывается утонченный прием Зиновьева изгонять нежелательных для оппозиции ленинцев.
Интересно, придет ли Иванов? Он грозился вывести Пучежского на чистую воду, а на деле — боится своего начальника. Но при чем тут подспудная мысль о книге Федорова? Почему невидимая нить странной ассоциации требует к себе внимания? Видимо, интуиция сама, без воли хозяина, выдаст разгадку на-гора. Надо лишь подождать…
Загудела широкая арка крепости. В Кремль вошла первая партия провожающих. Групповой приход объясним: все приезжие коммунисты жили сообща — большая коммуна на Большой Михайловской, малая коммуна на Малой Михайловской, а средняя на Московской в совпартшколе, где объединились латыши. Они-то и нахлынули, окружив плотным кольцом земляка Карла Сомса; наперебой желали ему здоровья и успехов на новом посту в Москве.
(Дорогой читатель, ты спросишь: а где напутственные тосты, вино, закуски, музыка и ресторанные столики? Увы, автор, очевидец событий, не имеет права на смещение временных примет: партийцы даже образом жизни боролись с гримасами нэпа.)
Вот те на!.. замаячил зеленый портфель. Правда, Пискун совсем не походил на прежнего Пискуна: не семенил ножками, не суетился, не заглядывал в глаза, а пристально следил за восточными воротами, где вот-вот появится красная рубаха. Пожалуй, Иванов сдержит слово, а начальник слишком самолюбив: жди скандала. И это в момент прощания с бывшим секретарем губкома, да еще на площади, где в избытке зевак. Упрекая себя за то, что подзадорил архивариуса на выпад, Калугин подошел к нему:
— Голубчик, перенесем вашу очную ставку с Пучежским на Контрольную комиссию, а то здесь…
— Что здесь?! — резко перебил Иванов. — Усомнились во мне?
— Сначала усомнился, — честно признался Калугин.
— Очная ставка за мной! — Угрожающий тон Пискун сменил на доверительный шепоток: — Для него Зиновьев — владыка…
До сих пор Иванов и Пучежский — не разлей водой. И вдруг бывший монах наговаривает на приятеля. Нет ли тут каверзы? Не ведет ли Пискун разведку в пользу ленинградского шефа?
В это время Карл Соме вышел из группы провожающих. Он, седовласый, крепкий, в гимнастерке военного пошива, коротким янтарным мундштуком указал на губкомовские окна:
— Дико! Из кабинета я ежедневно видел монумент, чем-то напоминающий огромную буденовку, а вот разглядеть поближе никак…
Латыш по-солдатски шагнул к Николаю Николаевичу:
— Дорогой историк, что тут примечательного?
Калугин увидел быстро шагавшего Ивана Воркуна в форменной фуражке с красным околышем и заговорил повеселее:
— Перед нами, — кивнул на бронзу, прогретую жарким солнцем, — памятник Дружбы народов…
— Что?! Что-о?! — театрально рассмеялся новый вожак молодежи Дима Иванов, однофамилец архивариуса. — Цари не объединяли нацменов! Сталкивали их лбами!
Дима, ставленник зиновьевцев, заглянул сюда не прощаться, а выявить, кто провожает ленинца. Он вызывающе сунул руки под боковой ремень портупеи: «Ну, что-де, и крыть нечем?!»
Робэне, заведующий совпартшколой, представительный латыш, с белой пушистой бородищей, словно бог Саваоф, грозно глянул на комсомольского руководителя в новеньком юнгштурмовском костюме и брезентовой шляпе с прямыми широкими полями.
— Не мешай слушать! — И мягкий взгляд, полный признания, в сторону Калугина: — Продолжай, пожалуйста…
«Не есть ли это начало открытого противоборства с зиновьевцами в нашей парторганизации?» — подумал Николай Николаевич, не желая оставить реплику противника без ответа.
(Дорогой читатель, в те годы не было теперешнего гимна Советского Союза, и Калугин, естественно, не мог осадить Диму Иванова общепризнанной истиной: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь».)
— Одно дело цари, и другое — люди русские! — Прижимая книгу к сердцу, он восхищенным взглядом окинул гранитную кафедру отечественной истории: — Здесь плечом к плечу — русские и украинцы, грузины, молдаване, греки…
— Конкретней! — взмахнул шляпой Дима, лицом похожий на популярного актера Макса Линдера. — Который грек?
— Вот Максим Грек! Рядом немцы, скандинавы, татары и даже воспетый Пушкиным тунгус…
— А при чем тут «дружба народов»? — выкрикнул Дима. — Липа!
— Нет, батенька, аргументы налицо. — Историк книгой выделил статую в гетманской одежде, с булавой в руке: — Богдан Хмельницкий! Олицетворяет объединение Украины с Россией. (Перевел взгляд на генерала с кавказским профилем и вьющимися бакенбардами.) Полководец Багратион. Потомок грузинских князей Багратиони. Именно они добились присоединения Грузии к России. А Багратион личным примером содействовал великому единству: вместе с Суворовым он бил заклятых врагов Грузии турок и персов, а тем самым наглядно убеждал, что в союзе с русскими кавказцам не страшны никакие набеги ворогов. (Вскинул книгу.) Но полнее всего здесь представлена наша дружба с прибалтами!..
Грохнись в тот миг высоченный памятник, он не потряс бы латышей, как слова Калугина. Даже Воркун бухнул:
— Кто?!
Выждав паузу, историк достойно произнес:
— Вот Гедемин… Ольгерд… Кейстут… Витовт… Довмонт…
— Все литовцы, — вздохнул Робэне, протягивая крупную крестьянскую ладонь. — А эстонцы, латыши?
В его голосе столько надежды, что экскурсовод не посмел разочаровать рижанина и рассказал о скрытой фигуре памятника:
— Не она ли олицетворяет латыша? Ведь мы же вместе боролись против царизма. Так или не так?
Неважно, что сейчас не обнаружили засекреченную статую, зато латыши обнаружили на постаменте русское дружелюбие. Карл Соме, в прошлом рижский рабочий, признался:
— Меня давно волнует: почему русские доверяют нам, не русским, руководящие посты? Почему так? Откуда это?
— От Великого Октября! — вставил Дима. — Смотри в корень!
— Верно! Но, друзья мои, смотрите и под корень: корень тоже чем-то питается. — Историк снова обратился к памятнику: — Перед нами уникум! Из всех народов мира только русские подняли на свой национальный пьедестал столько нерусских. Не так ли?
Все латыши: Соме, Робэне, Калейс, Кродов, Каулин — национальный вопрос изучали в подполье, тюрьмах, ссылках и схватках с белыми, — они одобрительно смотрели на памятник Дружбе народов. А гид вывел тысячелетний смысл России глазами современника:
— Всякое царствование кончается царствованием народа!
— Правда! Здорово! Спасибо! — дружно благодарили латыши.
Смущенный похвалой, историк двинулся к чекисту:
— Голубчик, продолжать поиск? — спросил он тихо.
Иван злыми глазами стрельнул на дорогу, где в открытой коляске ехал местный комиссионщик Коршунов, обложенный покупками.
— Замахнулся на пивоваренный завод. Откуда капитал?
Чекист никак не мог смириться с частной торговлей, но в данном случае его реплику Калугин воспринял как ответ на свой вопрос и решил сегодня же зайти в коршуновский магазин.
Воркун заметил в руке друга книгу и глазами спросил: «О чем она?» Тот, рассказывая о противоречивом мировоззрении Федорова, вспомнил о недавнем споре в большой коммуне. Там свой устав, совет, свои дежурства и общая столовая, где завтраки, обеды и особенно ужины сопровождались обсуждением новостей и оживленными дебатами. В последнее время умами коммунаров завладел первый «Ленинский сборник». В нем — замечательные письма Ильича к Максиму Горькому. Горячую перепалку вызвала ленинская реплика: «Я считаю, что художник может почерпнуть для себя много полезного во всякой философии».
Пучежский считал: «Вредная философия вредна всем». Коммунары, разумеется, не зря пригласили к себе Калугина. Они общими усилиями отбили атаку губполитпросветчика. Тот признал, что диалектику подарил нам идеалист Гегель. Но Калугин остался недоволен собой: не сумел назвать художника, черпающего полезное из всякой философии.
А сейчас у него в руке книга религиозного утописта, идеи которого волновали титанов русской литературы: Толстой, как и Федоров, войне противопоставил вселенский мир; Достоевский увлекся космическими фантазиями Федорова.
Насколько нить интуиции сложна, запутана, скрыта, настолько она в конечном счете ясна и продуктивна: связь-то меж большевиками и Федоровым в одном отношении оказалась вполне реальной, Федоровский призыв к сознательному овладению природой средствами науки и техники, к выходу в космос, а главное, дерзновенная мысль управлять эволюцией — все это широкомасштабно и прогрессивно. Вот и ленинский план электрификации России удивил даже фантаста Уэллса!