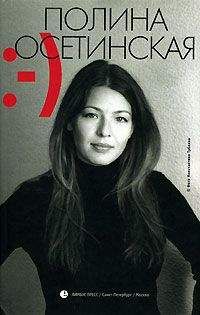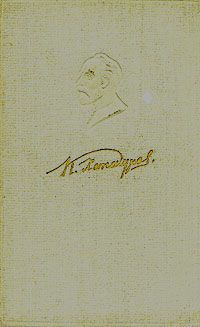Инал Кануков - Антология осетинской прозы
Данел — мужчина средних лет, с жиденькою русою бородкою и с маленькими усиками; глаза его живые, проницательные. Ходит он вечно в заплатанном бешмете. Серая черкеска его тоже достаточно поношена: в одном месте она заплатана кожею, а в другом — материей. На груди красуется несколько газырей, самых разнокалиберных. Одни из них без затычек, вследствие чего в них только гуляет ветер, и два-три газыря с затычками. В одном из них хранятся всегда две-три спички, которыми он закуривает «паперос». Он не какую-нибудь вонючую махорку курит, а «туренцки», как он называет турецкий табак. «Туренцки» у него бывает не больше, как на две-три папироски; она тщательно завернута в бумажке, вложенной в складки шапки. «Туренцки» он не покупает, да у него и денег-то нет, а выпрашивает у торговца ситцами в нашем ауле, Михела, или же у кого-нибудь другого, курящего турецкий табак. Папиросная бумага встречается у него редко, а если встречается, так это для него роскошь. Он обходится и без папиросной бумаги, довольствуясь простой писчей.
Я сказал, что в одном из газырей с затычками хранятся спички; в остальных же двух газырях на запас хранятся два заряда. Придется же ему танцевать с какою-нибудь хорошенькою девушкой: нужно же шикнуть, то есть выстрелить во время самых танцев из пистолета, с которым он редко расстается. Шапка его от ветхости похожа скорее, как у нас выражаются, на дохлую курицу, чем на шапку. А может быть, и оттого она растрепана, что неоднократно тешилась ею молодежь и стреляла по ней. И несмотря на все это бедное одеяние, он всегда бывает весел, болтлив, разговорчив, учтив и, что выдается резче всего в его характере, бывает услужлив.
Многие в нем весьма часто нуждаются. Приедет ли к кому-нибудь в аул какой-либо важный гость, Данел ухаживает за гостем. Он очень хорошо знает «оздандзинад» (узденский этикет) и потому умеет обходиться с гостем, хоть будь он даже «биаслан-алдар» (кабардинский князь); он везде понатерся, везде бывал и все знает. И он весьма гордится тем, что знает в совершенстве оздандзинад и часто щеголяет этим знанием.
Ни одна пирушка в нашем ауле от него не ускользнет. Да и сами хозяева, в доме которых происходит пир, не пожелают отсутствия Данела, потому что он отличный распорядитель танцев и сам отличный танцор. Танцы почти всегда открывает Данел. При этом, подхватив любую девицу под мышку, он старается изумить толпу каким-нибудь нововведением в танцах. С девицами же Данел обходится, как брат с сестрами, и девицы только одного его не дичатся, только с ним одним свободно говорят, от других же парней конфузятся и бегают.
Девицы ничуть не сердятся на Данела за то, что он отпускает им неприличные остроты весьма плоского свойства; похихикивают под своими длинными рукавами рубах и только. Другие же парни не настолько смелы, чтобы шутить с девицами, да и вообще странная у нас натянутость в отношениях между девицами и парнями! Девицы даже как бы стыдятся показывать парням свои лица…
Данел не только душа молодого общества нашего аула, но его и в других аулах знают. Будь в ауле за пятьдесят верст пирушка, он и туда поспешит, если только есть возможность поспеть; и в другом ауле его примут с удовольствием; там, как и в нашем ауле, он будет распоряжаться играми и будет веселить честную компанию, за что поест и попьет, может быть, слаще всех. Для него нет определенного постоянного местопребывания, хотя у него есть своя собственная сакля. Но что за сакля? Она похожа на сказочную избушку на курьих ножках. Стоит эта сакля особняком, почти на самой середине улицы, без всяких пристроек и забора. В ней живет престарелая мать Данела, потерявшая всякую надежду на помощь со стороны сына…
— Оуй, послушайте, люди! Ночью умер Караксе, оу-у-уй! — так кричал нынче чуть свет Маци, крикун нашего аула, с вершины холма.
— Вот тебе на! — сказал я, проснувшись от этого громогласного крика нашего «фидиога» (крикуна), — умер мой родственник… Впрочем, он был уже стар, да к тому же долго болел… Нужно идти «мардма» (то есть посетить семейство несчастного и посетовать).
Встал, оделся и умылся. Вышел.
По улице толпами шли мужчины и женщины. Мужчины все были вооружены длинными палками. Назначение этих палок то, чтобы на них опираться, так как мужчинам приходится много стоять. В прежнее же время этими палками сердобольные родственники умершего колотили себя по голове до крови и даже до ошеломления.
Женщины были наряжены в лучшие платья и шли, сторонясь мужчин. Когда я вышел со двора, со мною поравнялся Хатацко. Мы присоединились к толпе мужчин и скоро подошли ко двору, где был умерший.
Вдоль плетня стояли мужчины, опершись на свои длинные палки, и смотрели грустно в землю. Мы остановились на почтительном расстоянии от той сакли, где лежал мертвый, и, как требовала церемония, стали, как вкопанные, в ряд, печально понурив головы. Мулла, стоявший у плетня с другими мужчинами, произнес протяжно: «Фа-а-ати-ха!» — и все присутствовавшие сделали «дуа», то есть прочли молитву за упокой, держа ладони вверх, и потом провели руками по лицу.
По окончании дуа мы все не двигались с места до тех пор, пока к нам не подошел родственник умершего и не сказал:
— Да поможет вам бог! Не печальтесь! Что же делать? Богу угодно было взять его — и взял.
На это некоторые из нас ответили печальным тоном:
— Да ниспошлет на вас бог лучшие блага и даст он вам другое утешение.
Сказав это, мы молча присоединились к толпе мужчин, ставших вдоль плетня. За нами шла другая толпа мужчин, которая с тою же церемонией присоединилась к нам. Женщины нашего аула молча, с поникшими головами проходили в саклю, где лежал мертвый, и оплакивали его. Из сакли я слышал отрывчатые фразы плакальщицы:
— Мой день… мое солнышко… тебя ожидают гости, но ты ничего не говоришь… твоя семья осиротела… Что будут делать твои дети, о мой день!
За этим раздавался глухой плач. Посетители приходили беспрестанно. Были между ними и из других аулов, что можно было узнать по вооружению. Их, вероятно, об этом известил «карганаг»[5].
Посетители из чужих аулов приезжали верхом, с лошадей слезали за аулом и оттуда шли пешком до места несчастья. Мулла, приглашенный из чеченского аула, читал под навесом монотонным голосом коран, положенный на подушку. Уже часов двенадцать. Вон и «цырт»[6] привезли. Мужчины идут к речке, чтобы, взять «абдаз»[7]. Солнце неумолимо жжет своими полуденными лучами, а мы все стоим молча. Посетители приходят и уходят. Вот приблизилось около десяти женщин. Это «марцыгой»[8] из соседнего аула, арба поодаль следует за ними. Они медленно выступают впереди, опустив печально головы: лица у всех закрыты платками, вероятно, из скромности перед мужчинами, которые, однако, на них и не смотрят, а погружены в какое-то оцепенение. У каждой из этих женщин на поясе висит белый платок («цасты калмарзан» — глазной платок для утирания слез во время оплакивания мертвого). Это обыкновенная принадлежность всякой женщины, которая ходит на марцыгой. Вот они остановились на довольно почтительном расстоянии от ворот и размещаются в две шеренги, причем женщины постарше летами становятся в первую, женщины помоложе — во вторую шеренгу. Вперед выдвигается одна старушка, одетая в короткий красный бешмет. Она опускает с головы верхний платок на плечи, некоторые женщины, постарее летами, следуют ее примеру; потом все они засучивают рукава (все это делается при глубоком молчании) и двигаются едва заметным шагом. Старушка начинает голосить:
— Что я буду делать?!
Остальные женщины производят какой-то неопределенный звук. Его можно уподобить звуку, издаваемому индюком, когда он, распустив широко хвост и крылья, вертится около своей самки.
— О несчастный! Что ты теперь намерен делать? — обращается она к сыну умершего, который все это время стоял у ворот, опершись на свою палку. — Что мы будем делать, когда мы лишились лучшего в семье, о ма бон!
Остальные женщины издают все тот же неопределенный звук:
— Э-эхе-хе! — рыдает двадцатипятилетний сын: — О ма бон!
— Что мы будем делать, когда наше солнце померкло? — продолжает старушка.
Между тем женщины, оплакивавшие мертвого в сакле, вышли на крыльцо и стали с засученными рукавами вдоль стены, под навесом крыльца. Старушка замолчала. Вдруг она издает надтреснутым голосом отчаянный крик «дадай!» и со всего размаху ударяет себя сжатыми кулаками по лицу. Шеренги следуют ее примеру, но они бьют себя не кулаками, а ладонями.
— Ма бон! — раздается с крыльца, где женщины бьют себя также по лицу.
Когда руки марцыгоя опускаются, женщины, стоящие у крыльца, одновременно поднимают руки и шлепают себя по лицам с криком: «Дадай!» Марцыгой таким образом подвигается вперед: женщины же, стоящие у крыльца в шеренге, остаются на одном месте, обративши лица к марцыгою. Вот старушка покачнулась: мне показалось, что кровь течет по лицу ее от усиленных ударов. Две женщины поддерживают ее, и она, в бессознательном состоянии ударяя себя по лицу, но уже слабее, продолжает предводительствовать шеренгами[9]. Наконец, вся процессия скрывается в сакле, где лежит мертвое тело, и оплакивание продолжается.