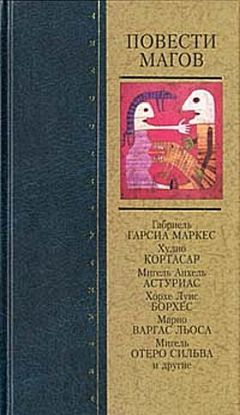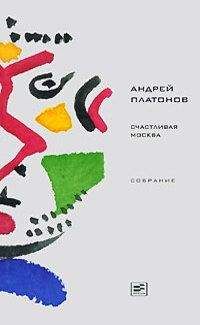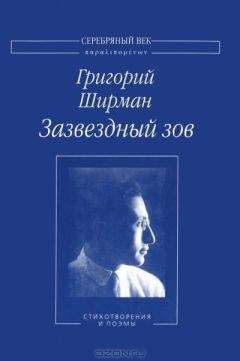Павел Зальцман - Щенки. Проза 1930-50-х годов (сборник)
Я видел, что ей пришлось даже теперь сделать усилие. Она целыми неделями не давала себя трогать. Я понимал, что ее не убудет. Это был такой сволочной характер. Я помнил это мягкое неторопливое движение, когда она сбрасывала мою руку. И я должен был знать, что она даст раздевать себя и меня не будет, и что это уже было. Она тоже знала, что я об этом думаю, и скорее всего наслаждалась. А теперь она не отнимала своих рук.
Может быть, она ничего другого не находила сделать. Ей было неудобно… из благодарности. У меня все это толкалось в груди. Тогда я стал целовать опять ее закрытые веки. Но она была озабочена только тем, чтобы никого не разбудить. Она не отходила от сына. Мне было и невыносимо внутри, и неловко внешне: ты говоришь, а тебе молчат, и ты не знаешь, что о тебе думают.
Она умела помалкивать. Но я уже ловил ту старую полуулыбку, обращенную внутрь, – кончики рта вниз, – улыбку внезапного жестокого самодовольства, которую я ненавидел, так как она тащила меня лизать ей ноги. Я хотел этого, но я боялся. А она не отходила от сына.
Утром в оглушающем стрекотании, сбрасывая воду с листьев, – мы забрались в разлившийся ручей, гремя обутыми ногами по камням в воде, а потом с трудом вытаскивая их из прибрежной топи, – мы заходили все глубже в какие-то заросли, чтоб быть одним. Я даже допускал, что это ей не менее интересно чем мне, но для чего? Это, конечно, безволие. Я ее ненавидел, но я перестал видеть, потерял все это из глаз. И ее мужа, хотя это сидело спрятанным глубоко. Сейчас я видел только ее. Я мог быть даже весел и шутить.
Наши вещи несли в лагерь, который нужно было найти. Мы не боялись отстать от проводников, но, кажется, нам обоим хотелось продолжить хотя бы эту ночь – ожидание. Мне минутами так казалось, – что и она, – так хотелось.
Она подчинялась мне без особой охоты, но и это было много. При этом я все-таки боялся, что она вдруг уйдет, и я уводил ее глубже.
Вылезши из воды этого ручья, мы остановились. Она отжала низ платья и я ясно видел ее спину и голые белые ноги. Это было невероятно. Я не переставал ощущать невероятность того, что я могу ее видеть, – я не надеялся, – узкие ступни с тоненькими белыми пальцами, когда она сняла ботинки, чтоб вылить из них воду.
Я хочу удостовериться, что это она. Я обнимаю ее плечи и уткнувшись в ее шею, слышу ее запах. Однако она оборачивается ко мне с насмешливой улыбкой, которая заставляет сдерживаться и ожидать. Да и что мне нужно… Главное – не выпускать ее еще минуту, еще час. Это всегда была главная боязнь и сомнения. Если бы мне когда-нибудь пришла в голову мысль, что она еще и еще захочет быть рядом со мной, я был бы страшно удивлен. Все было поставлено в наших отношениях так, что она может уйти каждую секунду. Поэтому я уводил ее все глубже, не слушая рассуждений о ее друзьях, к которым она должна вернуться. Там ее вещи, а тут все растоптано и попорчено, ни одной пижамы. О сыне она не говорила. Он был с моими охотниками.
Мы спохватились, когда быстро стало темнеть и пошел дождь, стучавший по плоским перепутанным острым стеблям. Пришлось пробивать путь в этой кромешной чаще. Я руками отводил их острия.
Наконец мы выбрались наверх, и я в туманном горячем воздухе разглядел при мутной луне над болотами наш холм и огонь лагеря. Мы подходили к единственной палатке, где уже спал ее сын.
Она повесила простыню на веревку, идущую между стойками.
Жара сгущалась. С бьющимся сердцем я отказался от света. Она, как будто ничего не подозревая, взяла фонарь и пошла туда.
Это опять было невероятно: эта раскрывающаяся стена, это чудо.
Мы обливались потом, дышать трудно. Она должна раздеться. Она вспотела и промокла. И я опять не верил, что она рядом.
Я только что при свете фонаря увидел, что у меня порезана рука, но сразу же забыл об этом. – Я должен был ее увидеть.
Она не гасила. Мне все равно, что́ это было такое. И все равно, что́ было раньше. А теперь это могло быть, что угодно: за палатку, за бисквиты и сухари, за деньги. Как я хотел, чтобы это было за деньги. Я был бы спокоен. Конечно, у меня не было самолюбия. Пусть она кто угодно, что угодно, если я ее увижу.
Стоя в темноте, я вижу ее спину, с которой она сдергивает поднятое белое платье, заведенные назад две руки, которыми она быстро расстегивает пуговицы. Я ясно вижу все, а она не видит меня. Хорошо. Пусть меня нет. Она подходит к складной кровати, где лежит ее сын, и нагнувшись над ним, – ко мне спиной, – я вижу ее бедра, которые облепила влажная материя, и ее босые ноги, – она стала наивно ниже ростом, – ступнями в темноте, в тени от стенки, – целует своего сына.
Может быть, она думает, что я не смотрю. Вряд ли. Этот ребенок прекрасно знает. Тут она повернулась ко мне и погасила свет.
Ах, как будто ее не бывало. Я в ужасе, я ловлю ее. Ведь это же то, что она ощущает отдельно. Она это делает со мной. Темнота, – то что она исчезла, – действительно меня очень испугала. Я ловлю ее.
И вот я слышу как она ложится вместе с сыном. Она встает… нет, – видимо, она заснула. А я не могу. Или она встала очень тихо. Темнота лишает ясности.
У меня болит рука, и я мог бы пойти за фонарем. Это прекрасно. Удачно, что я порезал руку. Я тихо окликаю ее:
– Я порезал руку, мне нужен фонарь.
– Я вам дам, – и она сама, приподняв простыню и пролезая под ней, приносит мне снова зажженный фонарь.
Она по-прежнему в одной рубашке, достаточно тонкой и к тому же влажной от воды и от пота, очень несвежей и кое-где рваной, босая. Я не слышу ее шагов, но я ее вижу. Эта рубашка почти прозрачная, и я вижу ее так, как не видел никогда. Это до сладкой тошноты. Мне нужно броситься даже не к ней, а на землю, чтобы грызть и гладить землю.
Она стоит очень спокойно и спрашивает:
– Где у вас порез?
– Вот, – я протягиваю дрожащую руку, чтобы она подошла поближе, и она ступает и уже рядом со мной. Ее плечи совсем открыты. Она наклоняется над моей порезанной рукой, и я гляжу на ее грудь, на нежную живую белую кожу, которая у самых моих рук, и я мог бы гладить ее губами, – и дальше, – рубашка провисла и стоило бы только оттянуть… Но она тихо, медленно шевеля тубами, шепчет:
– Посмотрите, действительно сильный порез. Где вы это?
Я с нетерпением гляжу на руку и вижу на середине от кисти к локтю с внутренней стороны довольно глубокий надрез, раскрытый, но уже засохший.
Черт бы его побрал: она уже выпрямилась и подняла на меня лицо.
Мы стоим друг против друга.
– Можно тебя обнять? – Неужели я это сказал? Нет, я просто протянул руку. Она ничего не отвечает. Но мы стоим уже тесно. Еще секунда – ее спина, ее живот – она не торопясь отталкивает мои руки.
У меня жар. Я думаю!
Единственная кровать занята тут же, рядом, ее сыном, и она в очень простых словах дает понять это. А на земле неудобно, – так и сказала. В каком смысле неудобно? Она совершенно спокойна и не торопится.
Я стараюсь что-то припомнить – у меня такое впечатление, – но не могу. Что-то она сказала вроде того, что «я буду твоя», какую-то пошлость. У меня жар. У меня настоящая лихорадка. Мне трудно спать, но я все засыпаю и просыпаюсь. Много раз.
А утром еще оказалось, что этот порез вспух, и кожа вокруг горит. Я тороплюсь сняться с места. Скорее, скорее до деревни. Пусть там льет дождь и пахнет травой и дождем – я это помню. И четыре стены. И одни. Только это. Дожди и круглая ночь. Постоянная ночь над нашей землишкой. Чего еще надо человеку.
Но я все не верю себе, своим глазам, ночной темноте, которая должна прийти. Я ее хочу, но боюсь. Мы быстро, торопясь идем.
Ее мальчишка-сын – на носилках. Я внимательно рассматриваю две длинные, совершенно прямые серые палки и переплетные ремни, и это меня успокаивает. Неприятно только, что я не могу вспомнить названия дерева.
Ведь это не может быть больно – это не может быть ревность. Он трется об нее. Это горькое чувство. Мне иногда чудится, что он лукаво взглядывает на меня. Он, кажется, тоже нездоров. А я весь высох. Кстати, и рука болит. Не удивительно – я не заметил – у меня, оказывается, не один порез, а три. Я поздно решил промыть ранку – хотя бы марганцовкой, так как под рукой ничего нет. Она стала какой-то мокрой, и я увидел, что рядом с ней – странно, именно рядом, на светлой здесь коже – еще два маленьких надреза. Как я их не заметил прежде? Может быть это что-то вроде какой-нибудь крапивы, которая дает себя знать потом? Но у них была странная форма – не царапины, а именно надрезы с расступившейся кожей.
Мы не дошли до деревни.
Не защищенные ничем от открытого солнца, – за туманом парит, – и она и ее сын совсем измучились. Мальчик очень похож на нее. Мне странно было смотреть на него. Мне было жалко, когда он засыпал на ходу и его голова свешивалась и кивала. Я это чувствовал слишком живо.
Когда нам пришлось остановиться и я вместе с проводниками развертывал палатку, у меня неожиданно по руке потекла кровь. Я поднял руку и снял бинт, чтобы рассмотреть порезы. И вот я увидел, что их не три, а пять. Я стоял с открытым ртом, разглядывая их, а затем позвал ее. Но она не успела подойти ко мне, как оба проводника, возившиеся с веревками, подняли головы и уставились на меня. Увидя мое удивленное лицо, они поднялись и глядели на руку.