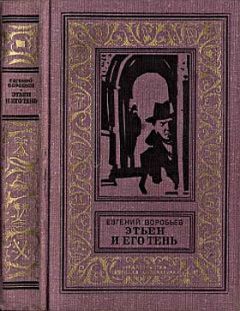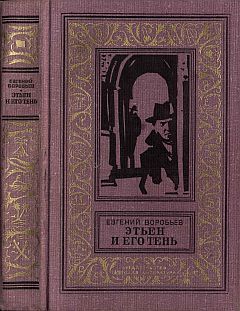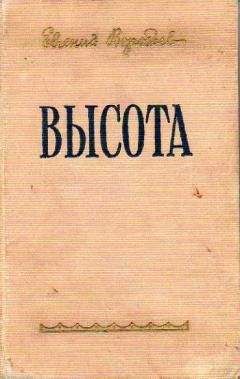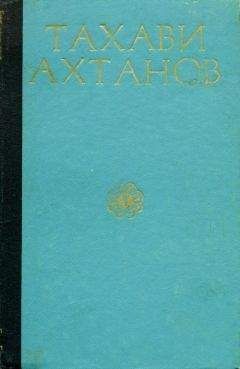Георгий Баженов - Хранители очага: Хроника уральской семьи
«Наливай».
Налили, подняли.
«Сволочь вы на сволочи. Только бабу пугать можете».
«Ладно, пей за смерть. Не каждому за свою смерть выпить удается».
Глеб подносит шампанское ко рту и вдруг со страшной силой бокалом, как ножом, засадил в лицо тому, который все говорил ему. Тут такое началось в ресторане, что только приехавшая милиция сумела навести порядок. Отсидел Глеб пятнадцать суток (если б не записки, которыми запугивали Варюху и которые она принесла в милицию, кто знает, как бы оно еще получилось). Отпустили, но на этот раз убедительно посоветовали уехать куда-нибудь подальше. На Север, например. Глеб, не долго думая, завербовался в нефтеразведку и уехал в Сургут, в Нефтеюринск. А перед этим как раз и вызывал к себе Марью Трофимовну начальник аглофабрики.
«Как вас, Марья… Марья Трофимовна, кажется, по батюшке-то?» — спросил, показав на стул.
«Трофимовна».
«Знал, знал вашего отца… мастеровой был человек. Старая закалка Да-а… Знаете, зачем вас вызвал?»
«Знать не знаю, но догадываюсь».
«То-то и оно… Хотелось бы по душам поговорить, да не знаю, как начать. Чтоб по душам-то. А?»
«Да уж я тоже не знаю», — усмехнулась Марья Трофимовна.
«Мне о вас Силин много рассказывал. Да и на собраниях, вижу, активно выступаете: за справедливость ратуете. Похвально…»
«Силин, значит, говорил…» — снова усмехнулась Марья Трофимовна.
«Лучшая крановщица». Так он говорит. Да я и сам знаю. — Начальник задумался. — А вот скажите, Марья Трофимовна, только откровенно, как вам кажется, что у нас за молодежь нынче?»
«Молодежь? А не знаю, что за молодежь…» — почему-то, как бы наперекор начальнику, продолжала усмехаться Марья Трофимовна.
«Ну, ну, как вы думаете?»
«Как думаю? Да никак не думаю. Я всю жизнь работала да детей растила, некогда было думать об этом».
«Та-ак… Не получается разговор. Не получается, а?»
«Так чего ему получаться? Думать-то вы одно думаете, а спрашиваете — о другом».
«То есть?»
«Ну чего «то есть»… Смо́трите на меня, думаете: вот, мол, мать отъявленного хулигана, а вслух вежливо так: скажите, пожалуйста, скажите, Марья Трофимовна, то да се, а на самом деле…»
«Ну, это вы несправедливо… Хотите знать, зачем я вас действительно вызвал?»
«Я сказала: догадываюсь…»
«А я, правда, просто так, по-человечески поговорить с вами хотел. Вот я знаю, вы всю жизнь действительно работаете, трех детей на ноги поставили, жизнь, можно сказать, им отдали, не говоря уж о душе — душу всю отдали им. Старались делать все, что можно. Вот дочка у вас сейчас в Москве. Трудно ей там. Вы внучку воспитываете. («Внучку… — с горечью подумала она. — Была внучка, да сплыла. Как-то она там теперь, в Москве, бедная моя…») И я уверен, воспитываете хорошо. («С чего это ты уверен? Говорить говоришь, а у самого, наверно, Глеб перед глазами вертится…») Потому что, знаете ли, смотрю вот я на вас и вижу: человек вы, каких редко встретишь. Вся вы — для других, свою жизнь ни во что не ставите, такой уж характер, такая душа…»
Эти слова как-то странно задели Марью Трофимовну, словно ее похвалил человек, от которого бы она не хотела слышать похвалу, — теперь как будто должна она подобреть к начальнику фабрики, а добреть не хотелось: ведь причина разговора, как ни вертись, — Глеб, а совсем не желание, как он уверяет, «поговорить по душам»… «Поговорить по душам», — тоже причины разные бывают.
«И вот я думаю, — продолжал начальник фабрики, — вот я думаю: или мы чего-то не понимаем, или жизнь устроена как-то не так, что человек бьется, бьется, добра хочет — а потом смотришь: зло. И самому непонятно, откуда. Вот ваш сын, например, Глеб. Ну чего ему не хватает? Чего, кажется, вы только не сделали для него! И вы, и школа, и общество в целом! Если надо когда — работает как вол. Из армии пришел с медалью. И вдруг — хватает стол и давай крушить по головам. Честное слово, не доходит это до меня. Не понимаю я чего-то. Наказать — можно, но откуда это? Почему? Вот что понять хочется… Потому я вас и спросил: что вы думаете о нашей молодежи? А вы, кажется, обиделись. Обиделись?»
«Не в обиде дело, — вздохнула Марья Трофимовна. — Вы не понимаете, а уж я — тем более. Если я и сделала что плохое, так единственное — слишком сильно любила своих детей. Это верно, всю жизнь отдала им. Но для детей, как я поняла, материнская жертва ничего не значит. Родила — воспитывай, так они считают. Что естественно, то не требует ни похвалы, ни наград. Тут есть резон. Но сердце? Куда его деть? Куда спрятать горечь? Куда денешься от боли, которую дети невольно нам приносят? И нет здесь ответа, а пожалеть — никто не пожалеет, то есть я не о той жалости говорю, о какой подумать можно… О жалости — чтобы понять. Понять — никто не поймет, потому что в самом деле ничего тут не поймешь, что у них в дурной голове делается. Ответственности у них нет ни перед чем. Ни за что не отвечают…»
В общем, ушла Марья Трофимовна от начальника фабрики сильно растревоженная. Страдать — это ее удел, но думать, догадываться обо всем и допытываться — тут она, кроме раздражения и отчаяния, ничего никогда не испытывала. Зря он спрашивает, что она думает о современной молодежи. Ничего она не думает. Чувствовала даже — зла на начальника. Что передал желание милиции, чтоб Глеб уехал куда подальше, на Север, например, — за это спасибо. А с разговорами — лучше не надо. Без разговоров душа болит. Матери-то как раз меньше других и понимают в жизни. Любовь к детям ослепляет их и ведет за собой. Что она думает о молодежи! Ишь чего нашел спросить… А то она думает, что вот взяла бы иной раз и собственного сына ногтем раздавила, как клопа. Но если ты будешь считать, что это от ненависти, — ошибаешься. От любви и от боли. От горя. А думать — это вы думайте.
После этого разговора Марья Трофимовна как будто не работала на кране, а мучила его — дергала рычаги так, что скрежет стоял в кабине и плач. Главное, от чего было очень больно, — от правды начальника: жизнь-то она отдала своим детям, это точно, а ты этого не трогай, без тебя тошно. Хуже нет, когда в самую точку попадут. Легче не будет, а тяжелей — это уж в двадцать раз. Ковш у нее не то что спокойно и плавно, а как сумасшедший летал над отстойником, брызги летели во все стороны, из насосной даже кулаками грозили Марье Трофимовне, — бесполезно. Один раз трос застопорило; была бы она поспокойней — обязательно случился бы простой из-за «стопора», а тут она так рвала рычаги, что трос как будто не посмел шутки шутить с хозяйкой, то ли случайно, то ли действительно от сильного рывка, но его расклинило, ковш со всего размаху плюхнулся в отстойник. Марья Трофимовна даже бровью не повела, что во все стороны — настоящим взрывом — шлам летел; и проклятия, которые ей снизу посылали рабочие, тоже сейчас для нее ничего не значили; ничего она не видела, не слышала, не понимала, а чувствовала только — зла, так прямо и кипит все внутри, а на кого, если подумать, то и сама не знала, кипит — и все тут…
Больше, впрочем, состояние такое не повторялось. Глеб уехал на Север — и слава богу, Маринку Людмила увезла в Москву, Сережа теперь целыми днями пропадал в профучилище, Степан — тот совсем дорогу домой забыл, прижился у «Ксюши Ксюшевны» окончательно. Как-то Марья Трофимовна встретила Степана на улице: новый костюм на нем, чистенький весь из себя такой, ухоженный, причесанный. «Может, лучше ему с Ксюшей Ксюшевной?» — невольно, без всякой горечи, без боли подумала Марья Трофимовна. «Ну, как поживаешь?» — спросила она его. «Да вот так, — сказал он. — Как видишь…» Хорош, конечно, разговор для мужа и жены. Но что делать? Осталась Марья Трофимовна совсем одна.
Началось с ней такое твориться, что она сама не знала, куда деваться от чувства безразличия ко всему, что ни происходило вокруг. Главное, даже к работе своей потеряла вкус и интерес, чего, казалось бы, никогда не должно было с ней произойти, — именно на работе она всегда раньше отходила душой. А тут — ну хоть плачь, и кран уже не в кран, и работа не в работу.
После смены Марья Трофимовна приходила домой, а дома — полный беспорядок, ни кровать не заправлена, ни посуда не вымыта, даже игрушки и книжки Маринкины не прибраны; как она уехала, бросила — и осталось все валяться, и ни пол не хотелось мести, ни печь топить, даже есть себе приготовить — и то как будто не было сил в руках. Садилась обычно Марья Трофимовна к окну, сидела и смотрела тусклыми — она чувствовала, тускло-тускло так все воспринималось ею, — глазами на улицу: вот проехала машина, вон Александра, соседка, пошла по воду, зимний пар изо рта, иней на ресницах, жар на щеках, и все это как-то механически отмечала Марья Трофимовна, вот Ульяна что-то Александре говорит, говорит, а та, как бы не замечая и не слыша ее, проходит мимо, Ульяна все равно вслед ей что-то говорит, кричит, а Марья Трофимовна думает: «Чего это она? Ну вот же баба…» — и мысль эта такая вялая, как засыпающий линь, так что самой спать хочется… Но это только ощущение — спать, а на самом деле даже спать идти не хочется, вот какое безразличие и апатия. Сидит, сидит Марья Трофимовна у окна, вдруг как будто спохватится: «Да что же это в самом деле?! А ну-ка…» — и как будто даже встать хочет, делать что-нибудь начать, а смотрит — как бы со стороны смотрит, — минута прошла, вторая, а она опять ни с места. И вновь, уже с тревогой даже какой-то, спохватится: «Нет, в самом-то деле?! Да разве так можно? Вот сейчас…» — и опять сидит, только руки как-нибудь по-другому положит или ногу на ногу закинет, чтобы локти можно было упереть, а подбородок в ладошки поудобней устроить, — и опять можно сидеть и смотреть в окно. Иной раз смотришь-смотришь, и вдруг слеза скатится по щеке — не от чего-нибудь там, не от чувства, а так просто… глаз, видно, утомляется в одну точку смотреть, да еще и мысли при этом ни одной в голове, словно там пустота и звон гудящий, а больше ничего. И ведь так не вечер, не два, не три, а так почти каждый день теперь, как ни вернется Марья Трофимовна с работы. «Ох-хо-хо-о…» — только и вздыхала она; вот думала — раньше-то — ну, уедет Маринка, Глеб перестанет позорить ее на старости лет, Сережа как будто тоже пристроен, Степан — тот вообще как отрезанный ломоть, думала — вот и отдохнет, вздохнет немного от забот и волнений, отоспится, для себя что-нибудь поделает, может, сошьет что, платье какое-нибудь, халат, а то отрезов много в комоде лежит, а сшить — все руки не доходили, времени не было, целыми днями как белка в колесе крутилась, а теперь и время свободное есть, и отдохнуть можно, и отоспаться, и даже на голове ходить можно, если хочешь, пожалуйста, а из рук вон все валится…