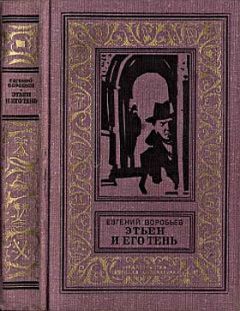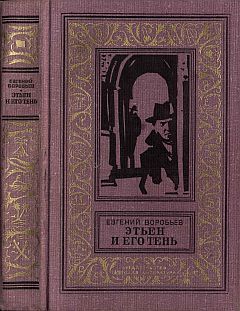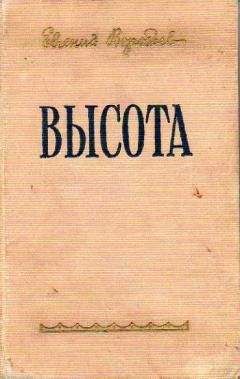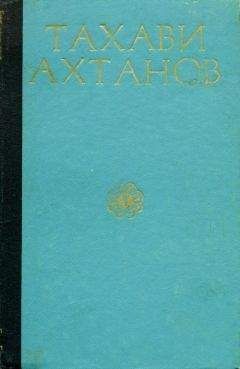Георгий Баженов - Хранители очага: Хроника уральской семьи
— Ты.
— Ну нет. Там лапти не нужны. Там давай современных девочек. Буги-вуги, твисты-шейки. А я… с ребенком? Не-е-ет, шутишь, черту я нужна, не то что там москвичу. Так, побаловаться — и бросить, таких желающих много и здесь. Ты взгляни на меня.
— Ну?
— Хороша я баба?
— А что, ничего. Глаза красивые. И волосы. И добрая ведь ты.
— На добрых воду возят. То-то и оно, что добрая да дура. А насчет глаз… не загибай, знаю, на кого похожа. В огороде чучело стоит, говорят, его с меня делали. Пока спала…
Обе они по-детски весело рассмеялись.
— Чего смеетесь? — вошла в дом Марья Трофимовна в клубах морозного пара. — Нет, а правда! — вдруг бедово-весело воскликнула она. — Давайте веселиться, бабоньки! А чего нам? Ох и напью-усь сегодня! Честное слово. Песни буду петь, мужиков ругать. Новый год встречать! Ну их всех к чертям собачьим! Правда, правда!..
А хороший у них Новый год получался. Они, когда выпили хорошенько, начали изливать другу другу душу. И вот тут как раз, в одну из таких минут, Людмила вдруг пожаловалась им, что она приехала домой, а там, в Москве, они поссорились с Витей… даже не поссорились, а как бы это сказать… ах, если б только кто понял ее, если б понял… Она собралась домой, а денег нет, а ведь Маринка ждет, и самой так хочется — сил нет, а Витя весь в учебе, на носу зимняя сессия, экзамены, а там скоро уже и выпускные, и вот она приходит домой, говорит: «Сегодня улетаю». А он говорит: «Ну да, конечно, правильно», — он потому так сказал, что они давно уже договорились, она поедет на Новый год домой. Но Витя есть Витя, даже не поинтересовался, откуда у нее деньги… А потом, когда они были в аэропорту, спросил: «А где ты денег достала?» Она ответила: «Знакомый один предложил». Он спросил: «В долг, что ли?» Она посмотрела ему в глаза, хотела сказать: в долг, потому что вряд ли бы что Витя понял (так оно и получилось), но язык не повернулся солгать, сказала легко так: «Да нет, просто так дал…» — «Как просто так? Да ты что, смеешься, что ли? Кто это просто так деньги дает?»
И вот она начала объяснять, что, в сущности, дело яйца выеденного не стоит, есть у директора магазина знакомый один, старичок, приветливый, мягкий, всегда все расспросит, всем поинтересуется, вот и говорит: «Да вы возьмите у меня, если вам деньги нужны, а у вас нет, ведь не куда-нибудь, а домой лететь, у вас такая, Людочка, славная дочь, а возвращать не надо, на что они мне, старику, деньги, мне уже ничего не надо, так, одно лишь ласковое слово, лишь бы людям хорошо было, а мне ничего не надо…» Она сначала наотрез отказалась, а девчонки стали все уговаривать: да бери, не теряйся, чего ты, дурочка, видишь, он от чистого сердца, а Вите своему ничего не говори, все равно не поймет… или поймет, да не так… Она думала-думала и говорит: «Хорошо, я возьму, большое спасибо, только мы обязательно вернем, обязательно, вот я вернусь в Москву…»
«И он что же, — спросил Витя, — так и отдал деньги, уверяя тебя, что не нужно возвращать?»
«Ну да… Говорит…»
«Значит, про себя он думает, что ты, возможно, согласилась взять их и не будешь возвращать?»
«Да кто его знает, что он там думает… Я-то ведь взяла и сказала: верну…»
«Ну а он-то, он-то, значит, так и уверен остался, что дает тебе не в долг, а так просто, «от чистого сердца»?»
«Ну что ты придаешь значение этой чепухе. Думает не думает…»
«Это не чепуха, Люда, — сказал он, — ты не должна никуда лететь. Ты должна немедленно сдать билет и вернуть деньги этому человеку».
«Да ты что?! Ведь я же к Маринке лечу, завтра Новый год, пойми, я обещала… ведь она ждет… Пойми, Маринка наша ждет меня! А ты из-за дурацкого принципа… ведь мы же решили забрать ее в Москву… Ты что, Витя?»
Он внимательно посмотрел ей в глаза и вдруг сказал ей совершенно дикие слова: «Люда, если ты меня любишь… если ты любишь… ты должна сейчас же, немедленно, на моих глазах порвать билет… И никогда, никогда больше…»
Она абсолютно ничего не поняла, растерянно заморгала ресницами и неожиданно расплакалась; на них с любопытством посматривали пассажиры.
«Витя… я не могу… я хочу домой… к Маринке… я не понимаю… я ничего не понимаю… Отпусти меня, пожалуйста, отпусти меня… Прости, но только отпусти… Витя, я хочу домой, к Мариночке-е…»
И потом была мучительная разлука, ему жалко было ее, но он настаивал на своем, она плакала, но не делала того, о чем он просил, не могла этого сделать, это было выше ее сил, и когда объявили посадку, она как бы поневоле поплыла от него, потянуло ее в сторону, к «выходу на посадку»… Она пошла, пошла от него и не могла иначе… и только смотрела на него умоляюще…
Настала очередь жаловаться и Олежкиной матери, а потом — Марьи Трофимовны, и до того они нажаловались друг другу, что самим смешно стало, засмеялись над собой, а Марья Трофимовна сказала:
— Ну, ба-абы-а… и ты у меня баба, ба-аба-а… — ласково потрепала она Людмилу по плечу. — Во-от что, бабы, Новый год-то уже к Москве приближается… видели время? — Она показала на будильник, подходило к двум часам ночи по-местному. — Ну вот… значит, та-ак, поднимаем за московский Новый год, за москвичей, за бескрайнюю Сибирь и за границы с Советским Союзом!
— Чего?! — рассмеялась Олежкина мать.
— А чего? Не так, что ли, чего говорю?
— А какова ты Дедом Морозом-то сегодня была, а, Марья Трофимовна?.. Ну, даешь! Прямо артистка, ей-богу!
— Так а чего… Она в саду-то, Светлана Владимировна, знаешь Светлану Владимировну, во-о-от, воспитательница, говорит: уж вы, пожалуйста, а я, мне это раз плюнуть, ха-ха, чего там Дедом Морозом, чертом могу, в аду могу, та-ак… так? Люд, а Людка, мы подарки развезли дет… дет-тишкам?
— Развезли, мама, развезли.
— Во-от… развезли… и спасибо нам… Так? Вот так… А ну их всех к чертям собачьим, этих мужиков… проживем… ты, Люда, смотри, мать у тебя знает жизнь, смотри…
— В первый раз тебя вижу такую, — улыбалась Людмила.
— Меня-то? Ну так вот посмотри, посмотри на мать… как мать умеет веселиться! Ну их всех к чертям собачьим…
— А чего, Марья Трофимовна, не отдохнешь ли? — спросила Олежкина мать.
— Я?! Отдохнешь?! А-а… вон чего… ладно, прощаю… на первый раз… Люд! Люд! — вдруг взмолилась она. — Ну, не забирай Маринку-то, а? Ты думаешь, я… да я… эх, Людка, Людка…
— Завтра, завтра, мам… Ну чего ты в самом деле. Утро вечера мудренее…
— Обхитрить мать хочешь… Ну ладно, бог вас не оставит без меня… Вы думаете, я спать хочу? «Вот так», — скажет Маринка…
Шла новогодняя ночь, Марья Трофимовна спала, спали ребятишки, а Людмила с Олежкиной матерью сидели за столом и вдвоем пели песни; Людмила пела глубоким грудным голосом, который в обычном разговоре никогда не прорывался в ней, — потому что, когда она пела, она пела с особенной задушевностью, искренностью и чувством.
Опустела без тебя земля,
Как мне несколько часов прожить,
Так же падает в садах листва… —
собственно не слова тут хороши, а душа, выразившая их.
13. КАК ПЛОХО БЫТЬ ОДНОЙ
Скандал был большой. Кто знает, не уедь Глеб на Север, может, и не сошло бы ему на этот раз. Самое неприятное не когда в милицию вызвали Марью Трофимовну, а когда начальник аглофабрики пригласил ее к себе. Разговор получился не очень откровенный, оттого вдвойне тяжело было. Глеб, конечно, самодур, но и его понять можно. Хулиганить — любил хулиганить, но никогда вокруг себя шайки не организовывал, ненавидел «шестерок». Любил, если уж дрался, драться один против многих, три-четыре человека для него — раз плюнуть. Началось с того, что не поладил с главарем поселковой шайки. «Шестерки» главарю пива хотели без очереди купить, а Глеб, пока сам не купил, никого не подпустил к прилавку. Вызвали Глеба «поговорить». Вышли. Главарь руку в карман, щелк — нож-складышек блеснул на солнце. Но нож для Глеба не страшен, он ножей не боялся, хладнокровие помогало. Нож отобрал, а потом избил главаря до полусмерти. Шайка переживала двойной позор — за себя (никто не решился идти на Глеба, теперь нож был у него) и за главаря. Начали мстить. Варюха тогда беременная была, все записочки ей подбрасывали: «Сегодня из ночной своего не жди. Прирежем». Или: «Готовь поминки: завтра твоему конец». Или: «Молись за упокой своего благоверного». Накопилось в Глебе злобы. Раз — это уже когда Варюха родила — сидит в ресторане, а рядом человек шесть из шайки устроились. Один говорит:
«Ну что, выпьем мировую?»
Глеб подсаживается к ним.
«Я бы выпил, — говорит, — да подонки вы все на подонке».
«Ну тогда прирежем тебя. Ведь знаешь, прирежем».
«Ну кто, например, ты, что ли? — спрашивает Глеб одного. — Ну вот сижу рядом, давай попробуй…»
«Здесь не место. А по бокалу шампанского за твою смерть выпить можно».