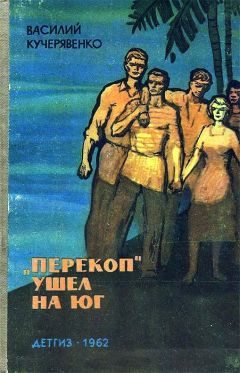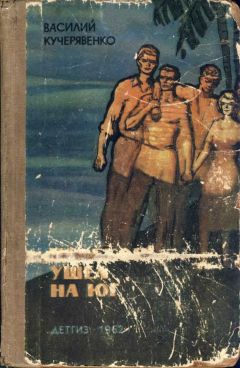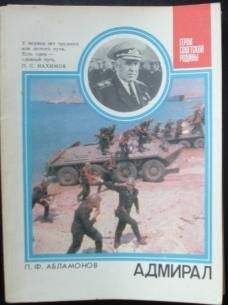Владимир Жуков - Хроника парохода «Гюго»
Медленно идет блок к паровозу. А внизу суета. Стропят паровоз, подводят тросы под раму. Береговые стараются, а пароходные — пуще: дергают, тянут.
Закрепили блок. Орут, чтоб разбегались, а на паровозе — Никола Нарышкин. Шугают его, как прокаженного.
Вздрогнул паровозище. Приподнялся передними колесами-бегунками над фальшивыми палубными рельсами, а потом и задние отпустил, повис в воздухе и ползет все выше, выше — к треугольникам и решеткам.
Ферма тронулась вбок, к причалу, стала снижаться, и паровоз поплыл через борт и повис над землей, над бетоном доброго, близкого к проходной двадцать восьмого причала. Еще чуть — и встанет на настоящие, земные рельсы...
И вдруг увидели, как из паровозной будки выбегает человек. Выбегает и лезет но круглому боку котла к сухопарнику, где укреплен медный свисток. Никакими правилами это не предусмотрено — находиться на паровозе, когда тот застроплен и висит в воздухе; строжайше запрещено, потому что опасно. Но человек лезет, хватаясь за строп, идущий к блоку, и в руке у него красный флаг, вернее, палка с прибитым к ней кумачом, и он втыкает свой самодельный флаг куда-то на сухопарник, и вытягивается во весь рост, и торжествующе машет рукой.
И видят: человек этот Сережка Левашов.
А раньше, когда он только лез по крутому боку котла, из паровозной будки вынырнул еще один нарушитель и тоже поднялся наверх, к блоку. И второй этот — Сашка Маторин.
Стоят на котле, обхватив друг друга за плечи, а крановщик ведет груз дальше, к рельсам — не начинать же все сначала! — и ставит громадину точнехонько, почти не шелохнув, на блестящие полоски, и грузчики тотчас лезут раскреплять стропы, и им легко, потому что есть помощники — Серега с Сашкой. И едва раскрепили, сбросили стропы, как «кукушка», маневровый локомотив, стоявший наготове, боднул черного красавца серии «Е» в буфера, и легкий звон пошел, и красавец покатился вперед, к стрелке, что за пакгаузом, перед выездом на основные пути. С первыми пассажирами покатился, с обнявшимися, как братья, Сашкой и Серегой, и красный флаг у него на сухопарнике гордо полыхал под солнцем.
И тут буксир какой-то загудел. Случайно, наверное, а «кукушка», та специально дала гудок, и все — пароходские и портовики — выдохнули разом:
— Ур-ра-ааа!
Огородову казалось, что он кричит громче всех. Не потому, что голос сильный. Просто вспомнилось, как выгружали танки в Петропавловске, и мороз, и ночь, и желтые снопы света от люстр, и как Андрей Щербина заклеивает языком порванную сигарету. Эта картина надвинулась на нынешнюю, а звук гудков и крики смешались с воспоминаниями — с тем гудком в Калэме, когда выносили гроб — на дождь, на чужбину... «Вот оно как все сплетено, — подумал электрик. — Не развяжешь».
Пока «Гюго» стоял на рейде, пока открывали ему границу, Федора Жогова увезли на катере.
Никто в тот час ничего не знал. Толпились всей командой в коридоре, ожидая, когда выкликнут в красный уголок. А там за столом пограничники, и грудой перед ними мореходные книжки. Требовалось в эти книжки поставить печати о прибытии в порт, чтобы каждый мог законно шагать по владивостокским улицам, ехать себе трамваем и вообще чувствовать себя как дома, как любой гражданин с паспортом и пропиской.
Через красный уголок проходили постепенно, по одному; миновав буфетную, скапливались в столовой. И пока там сидели, ожидая конца формальностей, таможенник выговаривал:
— Вы, товарищи моряки, люди культурные, правила знаете, документы аккуратно заполняете. Чего и сколько за границей куплено. Но что туда некоторые пишут? Вот послушайте: «Клифт — 1, шкары — 1, колеса — 2 пары (одни дамские)...»
Смех в ответ, общее веселье. Один Огородов оставался серьезным. Знал, Оцепа это запись — чья ж еще? Он, электрик, на Сергея Левашова смотрел.
Парень гордый, две недели ходил, работал, а тут, когда открывали границу, сник. Огородов его понимал, он и сам тревожился: мало ли что? Не учел, что пограничников американские Сережкины блуждания не касаются, этим занимается другое ведомство.
Как распустили всех, тотчас отправился наверх, к Тягину. Он помощник, он на вахте, он вроде приятель.
— Давай, — сказал электрик прямо в дверях, — информируй!
Тягин сидел за столом. Развернул креслице и посмотрел с опаской:
— Ишь какой шустрый!
— Ладно, не томи.
— А ты не приставай. Любите вы все приставать. Узнаешь, что надо, когда время придет... — Тягин помолчал и вдруг спросил сам: — А тебе что, собственно, знать охота?
— С Левашова спрос будет? Что Полетаев про все это думает?
— Ну-у! Сам не можешь догадаться? Жогов-то с часовым под дверью сидел всю дорогу, а Левашов работал.
— Левашов честен в калэмской истории. Как стеклышко. Я все знаю. И Полетаев иначе решить не мог.
— Значит, тебя заботит, поддержат ли точку зрения капитана? Могу тебе только сказать... — Тягин встал с вращающегося кресла и подошел к двери, подергал за ручку, проверяя, плотно ли прикрыта. Тихим, хрипловатым голосом продолжил: — Клянись, что не будешь трепаться!
— Только тебе.
— Бумага есть у капитана. От консула. В бумаге официально сказано, что Левашов на Жогова с ножом кидался, доллары пытался отнять и требовал у американцев вернуть его на пароход. С достоинством, написано, и с сознанием долга держал себя парень. Как подобает гражданину Союза Советских Социалистических Республик.
— Консул — лицо ответственное, — сказал Огородов и тоже подергал ручку двери. — Консула должны послушать.
— Должны, — согласился Тягин. — Консул — о-го-го! Но и капитан, скажу тебе, лицо значительное. Особ такой, как Полетаев. Их ведь, знаешь, беглецов...
— Беглец один.
— Ладно, один... Их знаешь, обоих хотели до разбора дела с рейда увезти. Для ясности! Капитан Левашова не отпустил.
Огородову стало досадно, что он не видел, как вели Федьку к трапу, как тот шел. Наверное, заложив руки за спину, в смятении. Сидел две недели в запертой каюте, иллюминатор задраен, желтая лампочка на потолке. А тут — небо, бухта, берег, палуба под ногами, и с каждым шагом все меньше и меньше остается ее, палубы, по которой ты прежде свободно ходил, мог руками махать сколько влезет и на порт, на сутолоку его, на городские дома мог смотреть сколько захочется. Теперь эти, что ведут, с наганами, или другие, такие же, не позволят вольно смотреть на город и на порт, ходить по палубе. Законно не дадут: отвечай! Вычеркнули, словом, Федьку из виктор-гюговских рядов...
А на рейде, когда не осталось и следов от рельсов, приваренных прежде к палубе, и в трюмах пусто, когда вот-вот после ударной разгрузки предстояло идти в новый рейс, выстроили всю команду и объявили капитанский приказ. Говорилось в нем, что матрос второго класса Левашов С. В. за нарушение дисциплины, за то, что покинул судно, хотя и с уважительными намерениями, но никому не доложив, достоин сурового наказания, даже перевода на должность палубного ученика; но капитан учитывает левашовский добросовестный труд и прошлое героическое поведение во время аварии и в палубные ученики не переводит. Просто он, капитан, намеревался произвести Левашова в матросы первого класса, а теперь свое намерение задерживает на неопределенный срок, чтобы матрос Левашов понял и почувствовал, что такое судовая, крепкая и незыблемая, морская, если короче, дисциплина.
И вроде как бы специально для Сережкиной обиды сразу зачитали другой приказ, которым (на освободившуюся жоговскую должность и опустевшую трагически Щербинову) в первый матросский класс возводились Сашка Маторин и Надя Ротова.
И снова пошли и снова замелькали вахты. Уже находились в Японском море, в мглистых его просторах, когда в каюту к Огородову явилась Алевтина Алферова.
— Здравствуй, — сказала. — Давно тебя не видела.
«Ну давно — это слишком, — решил электрик, — только что в столовке вместе ужинали». Но понял, к чему она клонит. Действительно, за время стоянки он ее из поля зрения начисто выпустил. Ремонты там разремонты, и домой, на Первую Речку, отправлялся при каждом удобном моменте. Он и ответил:
— Верно, давненько не виделись. И непонятно мне: отчего же ты снова на судне? На берегу, помню, собиралась застрять.
— А потому не осталась, — ответила Аля, — что рано. Ты газет не читаешь, электрик Огородов. Постановление вышло: чтобы развестись, в суд заявление надо подать. Только суд один, а желающих холостыми стать много. Ждать надо.
— Тебе, положим, суд не нужен. Тебе — в загс.
— Не обо мне речь. Другому человеку прежде развестись надо.
— А на берегу, значит, тебя одну оставить боится? Суд поджидает?
— Ага. Боится. Серьезный он, этот человек. Строгий. Весьма.
Она смотрела на Огородова, а он — на нее. И тут электрик понял, что Алевтина смущена вот этим своим положением — еще не венчанной, но уже не свободной. «Не с большой любви, видно, решение состоялось», — подумал электрик.